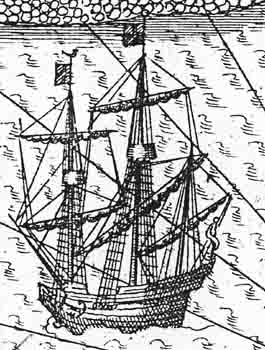Северная бригада организована Издательством Писателей в Ленинграде. Северная бригада организована Издательством Писателей в Ленинграде.
Ее задачи:
Во-первых, обследование строительства, изучение экономической и общественной жизни края, прилегающего и тяготеющего к Ленинграду;
Во-вторых - поиск литературных форм, способных наглядно запечатлеть стремительную поступь нашего времени.
Волна писательских бригад растекается по пространствам Союза. Писатели торопятся заехать возможно дальше от своих местожительств.
Попадая в непривычные трудовые условия, в чужую природу, они часто путают главное с второстепенным. Их пленяет экзотика. Их рукописи наполняются восклицательными знаками. Восклицательные знаки стоят не на должных местах.
Наехав на отдаленный район и навосклицавшись, писатели возвращаются обратно. «Как беззаконные кометы…» Связи с местами прерваны.
Следует подняться встречной волне бригад, рождающихся на периферии. Важны показания районных свидетелей стройки, тех, для кого изучаемый край – не случайная база отдыха, а место постоянной работы.
Северная бригада ощущает себя именно районной ячейкой. Путь ее вытянулся линией, замкнулся округлостью Кольского полуострова.
Северная Бригада считает: неспособному различить новое в своем окружении – не помогут и дальние плавания.
История Бригады не кончается выпуском книги. Темы, затронутые на этих страницах, развивает сама жизнь. Бригада следит за ростом своего материала. Она породнилась с ним и намерена общаться с ним и впредь.
Шефы бригады: остров Кильдин, Хибинский массив, карельские сосны, рельсы Мурманской дороги и каждый, кто трудится над превращением Севера в огромную силовую станцию Республики.
«МАРГИТ»
Человек идет по широким мосткам, забитым в залив, как деревянное Г. Он собрался в дорогу. У него несложный багаж, сапоги, кепка, пальто. Ему нужно выехать в море. Его ожидает «Маргит».
Мурманский порт окружает идущего своей неусыпной работой. Товарные вагоны, прижимаясь друг к другу, кочуют по рельсам. Они заслоняют путь рокочущей, наборной стеной, застревают глазами и, отдохнув, влекутся в обратную сторону. Их приходится обходить, но они настигают снова.
Человек останавливается. В раскрытых вагонных ящиках мимо него продвигаются бревна. Яично-желтые, гладкие, или светлой лимонной окраски. Они запрудили мостки и пахнут вязко и сухо. Бревна колышутся над головой, перехваченные струной крепчайшего троса. Их объемная желтизна рельефно ползет вдоль черных бортов пароходов. Вздернутые лебедкой бревна висят над кузовами высоких судов и гулко рушатся в трюмы.
В непрерывной погрузке чистой и свежей сосны – медленное однообразие. За перелетами бревен по воздуху, за тем, как отрываются они от помоста и, описав золотистые дуги в пространстве, переселяются на пароходы, можно следить без конца. Но человеку некогда. Его ожидает «Маргит».
«Маргит» притулился у пристани в чаще соседних ботов. Их трудно отделить друг от друга. Узкие палубы столь смежны, что образуют общий плавучий настил. Глаз отказывается сразу расставить по местам одетые солнцем мачты. Нужно вглядеться в трубы, перекладины, канаты и рулевые будки, и тогда «Маргит» извлекается из горсти судов и стоит отдельный со своими личными свойствами. Он мал, трогательно мал. У высокой причальной линии он кажется продолговатой дощатою впадиной. Две мачты его беспомощно тонки. Его можно вынуть из моря и поставить на письменный стол.
По криво притянутой к пристани лесенке человек слезает на палубу. Ноги попадают в тюки, набитые паклей и тряпками.
Отсюда по бочкам и ящикам к не заставленному пространству у носа. Здесь можно сесть на багаж. Здесь нужно ждать отправления. Изнутри «Маргит» выглядит большим. Все предметы становятся шире, действительней. Труба утолщается, мачты растут в высоту. Башенка способна вместить рулевого. В маленькую дверцу, ведущую в кубрик, возможно, пригнувшись, нырнуть. Палуба крепко поддерживает человека. Судно не накреняется от его шагов. «Маргит» устойчив. Облупленные борта его несомненно выносливы. Им можно ввериться. «Маргит» видел море вплотную.
Человека охватывает спокойствие. Он лениво смотрит в залив. Лохматый маргитовский пес обнюхивает сапоги человека, поблескивает пытливыми влажными глазами и снова ложится, свернувшись чернявым клубком. Коричневая расцвеченная солнцем вода рябится мелкими волнами. Бурые, в складках хранящие снег, горы, оступаясь, спускаются в воду. Земля встает без прикрас, без трав, без деревьев. Она говорит сама за себя и сама о себе. Обнаженностью впадин, округлостью скатов. Вода подступает к глазам человека. Вода родственна памяти. И человек задумался, словно глядится в мерцающие, чуть плещущие воспоминания. Но они неясны, их рассмотреть невозможно.
Неопределим и сам человек. По одежде, по крепким рукам, по уверенной осанке он, вероятно, рабочий, по достоинству и по спокойствию черт — северянин. Он едет не для развлечения. Возможно, его вызывают на новое место. Он не молод, чтобы искать наугад. Не суетлив и не столь любопытен, чтобы менять обстановку по прихоти. Как бы то ни было, он сейчас путешествует.
Пусть оседло сидящие в комнатах ясно представят, что в каждый данный момент, день и ночь, во все времена года огромная часть людей находится в странствии. Поезда приближаются к станциям, пароходы висят на волнах, пешеходы упираются в землю подошвами. Вся страна прорыта, опоясана, оплетена путешественниками. Движущаяся сеть человеческих существ, подобная путанице приводных ремней и трансмиссий. Что-то головокружительное в таком представлении. И одна из точек в этом одновременном, со всех сторон происходящем движений — человек на «Маргите». Впрочем, он об этом не думает. Да и сам «Маргит» сейчас неподвижен.
Путешественник путешественнику рознь. Если сопоставить перемещающиеся в различных странах человеческие особи, можно разглядеть характер страны. Можно исследовать время, черты его лица, следя за породами путников. Здесь их природа отлична от природы странников Запада. Даже торопливый курортник — и тот выполняет задание. Его праздность целеустремленна и необходима. Город выслал его на безделье. Город настаивает на доброкачественности его отдыха. И, чувствуя, что перед городом предстоит отчитываться, отпускник отдыхает во всю свою мочь.
Помимо деловитых курортников мощно движется неоднородный, изъясняющийся различными диалектами человеческий материал. Это те, кто втянуты стройкой, как пылинки в крутящийся ветер. Рабочие всяких квалификаций, слесаря, плотники, каменщики, крестьяне-лесорубы, сплавщики, грузчики. Не все они размышляют о стройке. Каждый вытолкнут в путь своим интересом. Но отдельные интересы сливаются в целые реки стремлений, и эти реки обтекают главные дамбы строительства. Так образуются естественные запруды, силовые станции человеческих воль. И, глядишь, из нескольких намерений выпросталось и стекольным фасадом выпрямляет пространство свежее здание фабрики.
Человек распускает мешок и, порывшись в суровом холсте, вынимает кусок черного хлеба. Хлеб черствеющий и ноздреватый придает домашность всей палубе. Место, где можно разрезать хлеб синевато-блестящим ножом, годно для жизни. Человек солит кусок и жует. «Маргит» обжит человеком. И «Маргит» конечно не тесен. Рядом с человеком свободно присутствуют еще трое. А по лесенке с пристани в макинтоше лезет четвертый.
У троих городская наружность общесоюзного вида. Они развалились на грузе и то встревоженно спорят, то примолкают, словно втянутые целиком в обширную тишь залива.
- Або, — говорит один.
- Архангельск, — отвечает второй.
- Постойте, постойте... Анапа, — торопится третий.
- Удивительное дело! Сколько городов на А. А когда нужно играть, ничего не приходит в голову.
- Тише. Идет капитан. Надо узнать, когда отправляемся.
- Да все нет моториста. Мой захворал. Послал за другим, — в ответ говорил капитан.
- А придет моторист, тогда скоро?
- Мотор разогреть недолго.
Коричневое лицо капитана в темной бородке. Он любит улыбнуться протяжной, серьезной улыбкой. На коротких ногах он ниже своих пассажиров и устойчивей их и, кажется, именно небольшой его рост сообщает ему значительность. Он оглядывает бот хозяйским внимательным взглядом. Груз получен сполна. Тряпки в тюках для обтирки рук рыбакам, ящики с твердой звонкой баранкой из Архангельска для становищ, жестяные круглые бочки, керосин.
- А много таких ботов у Рыбаксоюза? — вопрошает один из трех горожан. Но прежде чем подоспевает ответ, тот, что сполз позже всех в макинтоше, суетливо подслуживаясь к капитану, вставляет словцо:
- Они, капитан, журналисты. Им все выспросить надо. Шутка его неуместна. Журналисты они или нет, капитан им ответит охотно. Но безработный столяр, за каким-то счастьем плывущий в Териберку, вообще говорит невпопад. Он толчется с утра в районе «Маргита», кружит по пристани, спадает на палубу. Худой, морщинистый, бритенький, в редко растущих волосиках, он согревается водкой. Водка будит в нем любопытство. Он сторонкой все обо всем разузнал и всем втирается в родственники.
-
Два бота таких у союза. — Замечание столяра не воспринялось капитаном. — По норвежскому образцу. На верфи новые строятся. Первый бот здесь был — «Андромеда». Тут промышленник жил до войны — Могучий.
-
Неужели такая фамилия?
-
Да, Могучий. Он завел себе «Андромеду».
-
Ну, а сам он теперь?
-
За границей.
-
Я тоже был за границей, — снова встревает столяр.
-
Надо в журнал записать пассажиров. — Капитан улыбаясь отходит. — Журнал мы ведем. Все вносим, касающееся поездки. Такой порядок морской. — Он перестукает по бочкам. В походке его прочное равновесие.
Солнце висит над горами. Расплывчатое и неяркое, словно ком масла. В белесоватых лучах крупно уходит угольно-черный корабль. Шведский корабль с ярко-белой надстройкою рубок. Сытно набитый бревнами, он вдавлен в воду по грудь. Залив вбирает его, превращая в черную полосу. Корабль становится меньше. Отлив.
«Маргит» становится ниже. Лишь верхушки мачт его перерастают мостки. Весь он глубже уровня пристани. Под мостками открываются сваи, выдавая устройство порта. Его подводная сущность — эти колончатые зеленые коридоры столбов. Клетки бревен влажных, замотанных в водоросли. Темноватые коридоры, по которым тянет пройтись.
Человек понимает, что дело с мотором не ладится, и проходит в машинное. Молодой моторист, наконец подоспевший, с лицом круглым, как у кота, ругается без передышки. Он едва успевает набрать в легкие воздух. Фразы слишком длинны. Коротким дыханием их не возьмешь.
— Надо цилиндр на палубу, — кричит вниз человек.
Моторист останавливается на середине моста. Подымает лицо, рябое от пота.
— Ты откуда взялся?
— Я сам моторист. Цилиндр, говорю, на палубу. Здесь накачаем воздух удобней.
Моторист ощущает поддержку.
— Еду в Териберку, в консервную мастерскую. Фабрика в Кандалакше, а там ее отделение.
Человек, говоря, поддерживает продолговатый цилиндр за конец, и цилиндр ложится на палубу.
- До семи б атмосфер накачать, — кричит моторист. — Тогда подогрею до одиннадцати и можно пускать. — И эта короткая фраза расшита такими вводными возгласами, что он произносит ее пять минут.
- Воднику нельзя не ругаться, — сказал капитан снисходительно.
Человек нажимает насос, похожий на велосипедный. Моторист отдыхает. Журналисты становятся в очередь, собираясь тоже помочь. Насос, упираясь, свистит. Руки напряжены. Спина согнута. Стрелка манометра прыгает. Разговоры притихли. На «Маргите» происходит работа. И в этой работе человек находит себя. Он не просто пассажир, занимающий временно палубу. Он влагает в существование «Маргит» усилие мускулов. Как всю жизнь привык его вкладывать в хитрые суставы машин. Мышцы сами сжимаются, в плечах накопилось упорство. Место, где можно работать, всегда сродни человеку. Его сменил капитан. За ним пыхтят журналисты. Шесть с половиной, семь атмосфер. Моторист зажимает кишку. Цилиндр уносят в машинное. И скоро неловкое хлопанье, срывающееся, становящееся постепенно ровным, быстрым и гулким, докладывает окрестностям, что мотор оживлен. «Маргиту» пора отплывать.
-
С детства плаваю. Сейчас ничего. Трудно зимой. Темь, туман.
-
И привыкли? — (Как к этому можно привыкнуть? — озирается журналист. Каютка — двоим с трудом повернуться. Ящик из-под макарон. В стене длинная щель. Туда забираются спать).
-
Моряки ни к чему другому не годны. Да и тянет. Иногда застрянешь на суше. Все ничего. А узнаю, кто-нибудь в плаваньи, хочется самому. — Капитан улыбается ободряюще. Собеседник смущен колыханьем каюты. Пол прилипает к ногам, и стены тянутся ввысь. Стол наваливается на грудь. Каюта кладет журналиста косо на спину. И вдруг прыгает вниз. Иногда в два скачка. Посуда звенит. Где-то в самой обшивке судна громоздкий шелест воды.
— Пошвыряет, как выйдем в горло залива.
— Да, — бормочет в ответ собеседник. Ему нужны какие-то сведенья. Профессиональная честность застряла в желудке. Подступает к горлу. Журналиста тошнит от приступов несвоевременной честности.
— С морем нужно бороться. В море главное — дух. Морю поддашься, ляжешь, разморишься, кончено, закачает.
— Жарко. Выйду наверх. — Журналист ползет по отвесным ступенькам на палубу. Лестница чертит восьмерки.
Стаканы звенят. Матросский кубрик несколько больше. С коек — отверстий в стене — свесились сонные лица. Печурка — колонкой. В ней красными камнями уголь.
-
Я тоже был за границей, — хвастает пьяный столяр.— В немецкую войну. Послан был с войском во Францию. Замечательная страна. Только — полная сифилизация.
-
Что? — смеются матросы.
-
Факт. Все больны. Им ничего. Так и живут друг с другом. А с непривычки — плохо.
Воображение столяра неустойчиво. Море раскачивает его мысли своими пьяными всплесками.
— Вот на родине у меня чудеса. Журналисты, приезжайте ко мне! В лесу загорелся огонь. Каждую ночь стоит как свеча. Непонятно. Мужички опасаются. Вызвали специалиста из центра. Он собрал мужичков. Подходят к лесу — горит. Специалист прямо к огню. Хотел накрыть его шапкой. И однако от колыхания воздуха потух огонек. Что смеетесь? Ничего чудесного нету. Просто — наука. Там было древнее кладбище. Кости гниют, потому и огонь. Стали рыть, докопались до кладбища. А еще мамонтов роют. Сколько угодно. Впрочем, мне все равно. Мне на мамонтов наплевать. Пусть лежит. Споткнусь о кость и перейду.
— Ты об литр не споткнись.
— Нет, об литр не споткнусь. Пришлось мне лежать в лазарете. Был я старостой. Мне для ламп древесный спирт выдавали. Вот однажды раненый студент меня и спросил:
-
Ты что в лампы льешь?
-
Спирт.
-
Как же можно спирт в лампы! — и давай объяснять.
- А не умрем? — говорю.
-
Не умрем.
-
Ну, и что?
-
Ничего. Ни одна лампа у меня с тех пор не горела.
Человек не спускается в кубрик. Он на борту и втихомолку поет. Мурманск оделся горами. От него ничего не осталось. Горы заменяют друг друга. Невыносимо безжизненные, они расступаются, отдавая пространство заливу. Разве можно жить в подобном краю? К горам прижимаются домики. Едва отделимые от горных покровов. Серые деревянные пятна.
— Финны, — сообщил капитан, — рыбачат.
Значит, и здесь трудятся, борются, любят. И кому-то берег залива становится родиной. В этих окатах хранятся чьи-то воспоминания детства. Кто-то не сменит неприглядные волны, полные шума и холода, на щедрую праздничность юга.
Волны подкатываются под днище «Маргита». Прочные длинные волны. Они рождаются медленно и нависают над палубой. Покатые ямы распахиваются у бортов. Ленивые горы воды, загибающиеся на вершинах нарядными гребнями. Игрушечные головки уток истыкали воду. Им уютно. «Маргитовский» пес лает, готовый бежать по воде. Утки взлетают и снова садятся на волны, как на подушки.
Журналисты с зелеными лицами бродят по палубе. Мачта вертится в воздухе. Океан перекладывает судно то поперек, то в длину. Ветер ложится на тело холодным компрессом.
-
Ну как? — голос капитана стучится сквозь ветер.
-
Плохо, капитан! — кричит журналист.
И океан, окончательно сладивший с берегом, отдавливает его назад и входит в глаза во всю ширь.
Остров Кильдин ползет к «Маргиту» огромным китом. Бока его вздрагивают от прибоя. Океан швыряет в него вагоны воды. Состав за составом в высокую плоскую морду. Крушение поездов непрерывно. Щепки пен валятся в камень. Остров Кильдин привык. Его отношения со штормом испытанны, давни.
Вверх и вниз, с борта на борт. Так же здесь кувыркались норманны в гнутых судах. Так же, черпая парусами безгранично раскинутый ветер, прыгал в еле норвежец с семьей. Тот, решивший, что остров пригоден для жизни, Эриксен, проложивший впервые дорогу «Маргиту».
Нет, дорога Эриксена не видна на волнах. Отпечаток его елы рассосался бесследно. Человек, стоящий на палубе, ничего не знает об Эриксене.
Он видит, — бухта раздается широкой дугой. Заносит в сторону длинную линию мыса. Мыс, вставленный в море, как черное лезвие. Вдоль бухты придавленные ветром домики. В бухте скачут бота рыбаков. «Маргит» раздвигает бота. Якорь грохочет. Унылой протяжной сиреной «Маргит» окликает поселок. Люди в поселке разбужены. Сирена глушит их сны. Люди тянутся к окнам. — Это «Маргит», — говорят они дружелюбно. «Маргит», привозящий товары. Вестник с суши. Знакомый «Маргит». Люди рады. Их остров не одинок. «Маргит» — кусок Мурманска, частица Архангельска. Может, привезены письма? Частица Москвы добралась на «Маргит» листами столичных «Известий».
Фигуры на берегу чернеют, торопятся. Лодка бьется в волнах, желая от них оторваться. Лодка рядом с «Маргитом». Журналисты тащат багаж и камнями валятся в лодку. Человек следит за разгрузкой и курит. Он еще не приехал. «Маргит» для него — переход от работы к работе.
Солнце уже высоко, полярное и обветренное. Мастерская в Териберке. Где это? Холодно, северно? Нет, ничего. Место, где можно работать, всегда сродни человеку.
НОША
Все было заполнено Кильдином. Остров врастал в них двояко: непосредственно и через рассказы, которые тут же сочинялись о нем и прочитывались.
Уже многое стало знакомым, уже безошибочно отличали они шум прибоя от ветра, а «Маргит» не возвращался и не показывалось другое судно, чтоб увезти их обратно в Мурманск.
Эту ночь спалось плохо. Писатели ворочались на овечьих шкурах, курили; изредка вставал кто-нибудь, подходил к окну и долго вглядывался в солнечную ночь.
Близ часа послышался треск мотора. Все трое быстро и неслышно вскочили. Взъерошенный простынями пол; у трех окон три белые тени...
— Маргит!
Треск нарастал. Казалось: то погружается он в глубокую воду, бурлит; то взлетает опять на вышку волны, взметая звуками брызги. А когда стало видно, когда показался какой-то человек на берегу,— ни «Маргита», ни Мурманска: в бухту вошла рыбачья ела. Никуда не уйти от себя самого, не покинуть дела, порученного жизнью. Они легли. Кильдин отступил. В закрытые окна так близко, так ощутимо, лучами забот, протягивался Ленинград. Дом Печати. Издательство. Приезд московских друзей... Литература. Иным рецензентам кажется, что литература — дрова, которые можно колоть любым топором и поджаривать на любом огне... Пустое и жалкое племя ругателей! Им хорошо — отругал да забыл, к жене пошел или в киношку, а ты помнишь; ругают ли тебя, хвалят ли, все равно несешь литературу, бережешь ее, как самую дорогую к плечам прикованную ношу. Как забор афишами, облепят тебя незаслуженными кличками, а ты одно кличешь: придите слова-помощники, придите слова-строители, и станьте слова, как вся страна... Кто же позволил ругать им, если нет у них боли за слово?
— Друзья, что вы скажете о литературе?
Первый. — Об одном горюю: плохо мы пишем. Рабочий Сельмашстрои возводит, а мы по-прежнему домики с резными крылечками.
Второй. — Да, отстаем. Надо вкопаться в дни, как в сырую глину. А дни наши походят на Хлебникова: камни, медь, комар на болоте, строящиеся заводы. Жизнь выкидывает крупный материал. От мужественного соприкосновения с ним рождается новое сознание. Помните, как стучали в порту молотки, как вздымалась по дороге стружка? Жизнь воинственна и нагружена, а писатель легок и смирен. Он завяз в двенадцатом веке, — отсюда благополучный стиль и полное безветрие в идеях. Нельзя орудовать словами стариков в молодое время. Земли и железа не хватает словам.
Третий. Верно, брат, верно! Не умею я говорить, а так. Для чего произошла революция? Чтоб в десять раз превзойти во всем дворян и буржуев. Чтоб была литература звончей копыт и краше солнца... Взять хотя бы меня. Я от сохи пришел, начинаю кое-что понимать, и вот мои литературные учителя. Они вернулись с полей классиков и привезли немало снопов. Будто и золотятся снопы, а посмотришь и страшно: снопы без зерен.
Но тут другое еще — больно холодно и безрадостно пишут. Что-то незаметно ни любви к людям, ни дружеской привязанности. Верно, что класс против класса, буржуя не полюбишь, а внутри? Почему внутри класса, к своему же брату, так сухи мы и недоверчивы? Ты понимаешь, дружеского слова хочется, чтоб беречь его и жить с ним. Второй. Пора поднимать литературу на высокие токи. Это ратное поле, где бьются века, системы идей, обычаев, вер; где сшибаются лбами и взаимодействуют земля и культура, сегодняшний день и древний Египет, выковывая завтрашнее тысячелетье. ...Они заснули только к утру, и ненадолго. В окно постучал сынишка местного кооператора:
— Папа велел сказать, что пришел бот.
ТИШИНА
Покинув Кильдин, писатели рассеялись по Мурманской железной дороге. В книге наступила тишина. Долго ли, коротко ли продолжалась она, — наконец всколыхнулось и давай покидывать веселыми словами.
«Глубокоуважаемые и нещадно любимые, друзья-товарищи кильдинцы! Ну, просто не могу не поделиться с вами восторгами. Уехали это вы тогда на остров, я поглядел на погоду и, недолго думая, махнул в старую Колу, что под Мурманском... Какое место! Какие колхозницы там, какие сарафаны, какие песни поют в праздники и в будни... Да вот прислушайтесь.
 Ярослав-город хорошо стоит. Ярослав-город хорошо стоит.
 Хорошо стоит испостроившись, Хорошо стоит испостроившись,
 Выше Киева, краше Питера, Выше Киева, краше Питера,
 Пример матушки каменной Москвы… Пример матушки каменной Москвы…
В один вечер исписал я всю тетрадь кругом и целиком, что на языке нашего очкастого друга — три четвертых печатного листа... Тетрадь прилагаю. Но это не все. Вернулся из Колы, слышу раздается за стеной спорный разговор. Поной, Иоканьга, Поной, олени... Знаете ли вы, что такое олени и где находится становище Поной? На самом бую, на самом краю Кольского полуострова... Уймите свою зависть: я в Поное! В этом же гигантском конверте найдете мое путешествие на Поной, изложенное дневником.
Крепко обнимаю, желаю вам повстречать зеленую травку, которой здесь не приметно, заработать на брата по 200.000 печатных знаков и т. д. Как только прибудет пароход, сразу падаю в него... Встречайте!». ЗАВОЕВАНИЕ КИЛЬДИНА
ПРАРОДИТЕЛИ
Эриксен плыл на север вдоль норвежских родных берегов.
Беременная жена помогала ему передвигать паруса. Маленькие Карл и Людвиг сидели у кормы на куче веревок. Незаходящее солнце вертелось в небе, как колесо, переходя с юга на запад, с запада на север, с севера на восток и снова на юг. Давно уже пропали ночи, сумерки, зори — ясный вечный день тянулся над океаном. Иногда мгла заволакивала солнце. Начинался шторм. Эриксен спускал паруса и садился за весла. Жена ведром вычерпывала воду, которая обрушивалась в лодку с каждой волной. Карл и Людвиг лежали ничком на днище, стараясь не вывалиться. Эриксен греб против ветра — если держать лодку против ветра, ома не перевернется.
Так продолжалось по несколько суток.
Шторм утихал. Эриксен ставил паруса, и лодка шла дальше на север.
Наконец обогнули Нордкап — самую северную оконечность Европы — пошли на восток. Здесь начались места, совсем неизвестные Эриксену. Потянулись безлесые горы Кольского полуострова, полосатые от снега, лежащего во всех углублениях.
Пересекли узкое горло Кольского залива, не заходя в него. Еще одни сутки в океане — и увидели бурую от мха огромную лысую скалу - остров, носящий у лопарей название Кильдина. Вряд ли Эриксен знал, как он называется.
Лодка пошла проливом между островом и материком. Горы — то как рыжие драконы, то как корабли, то как свиньи, то как женские груди — были теперь с двух сторон. Кильдинский берег отодвинулся, образовав круглую бухту, отделенную от океана низкой плоской косой. На самом конце этой косы, на узком мысу стоял деревянный крест. На перекладине, креста было вырезано славянскими буквами: «Исус Христос царь небесный господь бог наш».
В те давние времена эти кресты служили поморам маяками. Остров Кильдин был необитаем. Но изредка жители берегов Белого моря посещали его, чтобы рыбачить в окрестных водах. И чтоб легче находить вход в бухту — поставили на мысу деревянный крест.
Эриксен ввел свою лодку в бухту. Он нашел то, чего искал. Бухта со всех сторон огорожена от ветров и пустынна. Здесь можно поселиться.
На берегу у самой воды он выстроил дом из наносного леса, выброшенного волнами на побережье острова. В первые годы дом этот был больше похож на обиталище зверя, чем на жилище человека. Но и в этом жалком доме была та сияющая чистота, которую можно встретить только в домах скандинавов.
Так лет шестьдесят тому назад на этом мерзлом острове появился человек.
Эриксен и жена его и дети зимой и летом, весной и осенью ели треску.
Ловил ее Эриксен древним, первобытным способом: он выезжал в море во время путины, когда треска идет по дну океана сплошной стеной. В лодке его был большой острый крюк на длинном канате. Эриксен бросал крюк в воду и волочил его в глубине. Крюк протыкал треску, нанизывал рыб на себя. Эриксен вытаскивал крюк, снимал с него рыб и греб к дому.
Каждый год жена его рожала ему детей, здоровых и крупных. Наконец у Эриксена стало пять сыновей, а дочерей еще больше. Сыновья, подрастая, начали помогать отцу ловить треску. Были они высоки ростом, широкоплечи, голубоглазы и круглолицы. Когда Карлу, старшему сыну Эриксена, пошел двадцатый год, он взял лодку, поставил парус и отправился по океану в Норвегию, в город Тромсэ. Оттуда вернулся он через несколько месяцев, везя в своей лодке молодую жену.
Рядом с отцовским домом Карл построил свой дом, как строят в Норвегии, не из бревен, а из досок. Чтобы полярный холод не проникал внутрь, он клал доски в три слоя и так, что щели не приходились одна на другую. Потолки и стены он выкрасил в желтый цвет, двери в красный, печь в синий.
На другой год в Тромсэ отправился Людвиг. Но кроме жены он привез оттуда огромный рыбачий ярус.
Ярус в свое время был переворотом, целой технической революцией во всем рыболовстве Ледовитого океана. Устроен он так: между двумя плавающими буями натягивается канат, от которого вглубь океана свешиваются пучки длинных, топких веревок. На конце каждой веревки — крючок. На каждом крючке наживка — маленькая рыбка мойва. Пучок веревки называется тюком. В тюке сто сорок крючков. В ярусе сотни тюков. Во время хода трески редкий крючок остается незаглотанным. В удачную ночь одним ярусом можно извлечь из моря целые тонны трески.
Мог ли с ярусом состязаться способ ловли — протыкание рыб большим острым крюком? Ярус стал стремительно распространяться по всем рыбачьим становищам океана.
Мало-по-малу все сыновья старого Эриксена побывали в Тромсэ. И после каждой поездки на Кильдине становилось одним домиком больше.
Но дочери Эриксена не ездили в Норвегию искать женихов. Женихи нашлись здесь же, на родном Кильдине. Каждую весну, в июне, в Кильдинскую бухту приходили десятки поморских суденышек с Белого моря. Поморы шли сюда на ловлю трески; но кроме трески находили здесь полных и крупных норвежских красавиц.
Женившись, они оставались на острове и строили дома. Так на Кильдине, кроме Эриксенов, появились Сладковские, Юрьевы, Зимины. Росли их дети. Образовалась особая кильдинская раса — русско-норвежцы.
ЭПИМАХ МОГУЧИЙ
Старый Эриксен-прародитель, и его жена-прародительница старели, дряхлели и умерли, окруженные детьми, внуками, правнуками. На мысу, возле древнего креста, служившего когда-то маяком, появились два новых. Теперь уже почти все ловили треску ярусами. Для ярусов требовалось множество наживки — мойвы. Мойва — мелкая морская рыбешка, заходящая по веснам целыми косяками в реки метать икру. Там, в устьях рек, ловят ее неводами и отвозят в становища, чтобы сажать на крючки ярусов.
И от хода мойвы стал зависеть лов трески. Бывали годы, когда трески в море очень много, но мойвы нет, и нечем наживлять яруса.
Рыбакам, промышлявшим ловлей трески, доставляли мойву купцы. Купец назначал цену, и рыбак должен был платить столько, сколько он попросит. Купцом был и Эпимах Могучий. Родом он простой помор — рыбак с Онежской губы Белого моря. Ловил он сельдь и треску, как все поморы, но мало-по-малу, разъезжая по рыбачьим становищам, стал он брать с собой на продажу то ярус, то муку, то наживку.
Заезжал он иногда и на остров Кильдин к потомкам норвежца Эриксена.
Он привозил на своем просторном купеческом боте все, что нужно рыбаку: и холстину для парусов, и веревки для сетей, и наживку, и сапоги, и ситец рыбачке на платье, и пряники детям. А взамен получал треску и увозил ее в город Архангельск.
Дорого брал с рыбаков Эпимах за товары, и дешево доставалась ему треска. И все же рыбаки обращались к Эпимаху чаще, чем к другим купцам. Потому что Эпимах верил в долг.
Если буря вначале путины сорвет у рыбака ярус и унесет в море — рыбак разорен. У него нет денег купить новый ярус. Вот тут-то его и выручал Эпимах Могучий.
-
Покупай у меня ярус, — говорил ему Эпимах.
-
Купил бы, — отвечал разоренный рыбак, — да нечем платить.
-
Ничего, бери. — говорил Эпимах. — После заплатишь. Я тебе верю.
Рыбак брал ярус и выезжал в море. Когда же он возвращался в становище с треской, к нему приходил Эпимах за долгом. Торговаться не полагалось. Рыбак платил столько, сколько с него спрашивали — втрое дороже, чем стоил ярус.
Бывали годы, когда трески было мало. Бывали годы, когда мало было мойвы и нечем было ловить треску. Тогда наступал голод.
И на помощь опять приходил Эпимах. Он снабжал становища в долг мукой, сахаром, солью, табаком.
— Расплатитесь, когда промысел будет получше.
Когда же треска приходила, нужно было платить Эпимаху за все взятое у него но тем ценам, которые он сам назначал.
Вскоре все становища океана оказались в невылазном долгу у Эпимаха Могучего. А Эпимах все богатеет. У Эпимаха уже целый флот. Парусные боты его не удовлетворяют — торговля разрослась — и он заказывает себе в Норвегии моторные боты.
Наступил девятьсот четырнадцатый год. Мировая война. Русскому правительству не хватало хлеба для прокормления армии. И оно заинтересовалось далеким Ледовитым океаном, где в таком изобилии водится треска. На поднятие трескового промысла правительство выдало дотацию — сто тысяч рублей. Кому же достались эти деньги? Трудолюбивым упорным потомкам Эриксена, запутавшимся в сетях Эпимаха? Нет. Деньги были вручены Эпимаху Могучему.
И потомки Эриксена стали подумывать о переселении на какой-нибудь другой остров, еще более пустынный и дикий, чем Кильдин, — такой, до которого не достанут щупальца Эпимаха.
В ГОСТЯХ У ЭРИКСЕНА
Мы приехали на остров Кильдин через шестьдесят лет после того, как на него впервые ступила нога старого Эриксена.
Вокруг бухты, у самой воды, полукругом стоят одинакосвоими неистовые круги в бледном солнечном утреннем небе. Всю ночь был шторм, и рыбачьи суденышки расплясались на якорях.
Вокруг бухты, у самой воды, полукругом стоят одинаковые дощатые норвежские домики. Каждый глядит в океан двумя квадратными оконцами. Сразу за домиками подымаются ступенями горы. Восемь ступеней. Склоны гор оттаяли — еще бы, ведь июнь на носу — но на ступенях лежит глубокий снег. И кажется, будто каждая гора восемь раз опоясана белыми поясками.
Нас всю ночь качало, трясло и крутило. Мы мерзли всю ночь в демисезонных пальтишках на палубе, нас поливало водой — волны плескались через борт — нас обвевал могучий ветер, пронзительный и резкий, дующий с полюса, который отсюда не так уже далек. Мы бросаем наши узелки и корзины в лодку, которая должна нас отвезти на берег вместе с баранками и керосином.
Вот мы в лодке. Гребут двое бородатых. Они что-то кричат нам, но ветер мешает расслышать их слова. Мы сидим на прыгающих скамьях, стараемся не потерять равновесия и с жадностью смотрим на приближающийся берег, где не будет качанья и где мы надеемся найти тепло.
Мы пристали возле старой брюги. Брюга — деревянный помост на сваях, нечто вроде пристани, до того пропахший треской, что к нему трудно подойти. Песок хрустит под сапогами. Шестой час утра. Мы, продрогшие до костей, стоим на берегу с корзинами в руках и тоскливо вглядываемся в домики. Но домики еще спят, двери закрыты, нигде не видно ни одного человека.
Спрашиваем одного из наших бородатых перевозчиков, не знает ли он какой-нибудь приют.
— Не знаю, — говорит он. — Здесь жилкризис. И уходит.
Жилкризис! В Ледовитом океане — и там жилкризис!
Вдруг мы заметили человека в овчинном тулупе и меховой шапке, который приближался к нам, вглядываясь в наши лица.
— Нет, не те, — воскликнул он наконец. — Ведь вы не насчет иода, товарищ?
— Нет, не насчет иода, — ответили мы, недоумевая.
Он был явно разочарован. Те, кого он пришел встречать, не приехали.
Мы поспешно объяснили ему, кто мы такие, и спросили — нет ли в становище горячей печки…
Он задумался. Это был добрый знак.
— У меня есть помещение для рабочих, — сказал он наконец. — Но, во-первых, там холодно, как на улице, а во-вторых, полно. Сам я живу в одном норвежском доме. Но у меня комната без печки и никогда не отапливается. Вот, разве, хозяева мои пустят вас в свою комнату погреться.
Он повел нас между домов, по единственной улице становища.
Улица усыпана крупной морской галькой. Ее никто не мостил. Здесь было когда-то море, и галька принесена сюда волнами.
Наш вожатый распахнул дверь. Двери тут не запираются. На Кильдине воров не бывает.
Мы вошли в дом Карла Эриксена.
Нас встретила хозяйка — тонкая высокая пожилая норвежка в вязаной теплой кофте. Хозяин еще не выходил из спальни. Нас ввели в большую комнату, которая служила одновременно и кухней, и столовой, и гостиной. Посреди комнаты топилась черная железная печка. Мы обступили ее. Хозяйка подложила в топку торфа, нарезанного ровными кирпичиками.
Торф — единственное топливо на Кильдине. Кильдин — остров безлесый. Прилегающие к океану части материка тоже совершенно голы.
К удивлению нашему, хозяйка нисколько не заинтересовалась тем, кто мы такие и откуда явились. Она принесла нам стулья, усадила нас вокруг печки и стала кипятить для нас воду в большом чайнике. Мы пробовали с ней заговорить, но она не ответила, и мы решили, что она не говорит по-русски. Но когда чайник вскипел, она вдруг сказала:
— Я была Тромсэ. Много лет назад. Знает Тромсэ?
Она, видно, хотела дать нам понять, что не всю жизнь прожила на острове, затерянном в Ледовитом океане, и знает кое-что о том огромном внешнем мире, из которого явились мы.
С нашим проводником, довольно угрюмым средних лет человеком, мы познакомились сразу, едва пошли. Он сам представился:
— Степан Захарыч. Начальник разработок йодных водорослей на острове.
-
Смотрите, здесь даже электричество! — воскликнул я, удивленный, заметив электрическую лампочку, висящую над печкой.
-
Это Пушторг провел, — мрачно и неохотно сказал Степан Захарыч. — Поставил моторчик и осветил все селение. Им некуда денег девать. И видя, что мы не в состоянии разделить его мрачности по поводу такого благодетельного поступка Пушторга, прибавил:
— Вот мы устроим здесь целый город — дома, общежития, сушилки, фабрики.
Нас усадили за столик возле окна. Столик покрыт чистой скатертью. Оконце совсем маленькое, напоминающее пароходный иллюминатор. Оно до половины закрыто кисейной занавеской. Если отодвинуть край занавески, видны волны, мыс с деревянным крестом на конце и пляшущие мачты лодок.
Мы долго пили чай, согреваясь. Хозяйка ни за что не садилась с нами за стол, как мы ее ни упрашивали. Наконец, пришел и хозяин, сам Карл Эриксен, старший сын прародителя — высокий плечистый старик с колючей седой бородой вокруг голого подбородка. Шея его обмотана пушистым вязаным шарфом. Он улыбается нам, но молчит. Русский язык ему знаком еще меньше, чем его жене. И тоже не хочет садиться с нами за стол.
— У вас есть дети? — спросил я, чтобы нарушить молчание, от которого нам становилось неловко.
Хозяйка поняла.
— Дети далеко, — ответила она. — Одна дочь в Мурманск. Комсомол. Совпартшкола.
Муж закивал головой и посмотрел на нас с гордостью. После чая хозяева повели нас по деревянной лестнице наверх и показали комнату, которую мы могли бы занять в их доме. Комната имела обжитый и уютный вид. В углу стояла кровать, покрытая одеялом. На стенах были новенькие обои с цветочками. Висели открытки, чистые и новые, будто вчера купленные. Не хватало только пустяка — печки.
В комнате, нетопленной всю полярную зиму, стоял мороз. Мы подняли воротники пальто. За стеклышком окна плескались угрюмые волны, напоминая о бессонной холодной ночи на палубе.
Делать было нечего. Мы оставили у Эриксенов свои корзины и пошли бродить по становищу с тайной надеждой найти себе пристанище потеплее.
ПОИСКИ ТЕПЛА
Возле каждого дома длинные тонкие жерди, на них нанизаны отрубленные рыбьи головы. Остекленевшие выпученные глаза трески и палтусов провожают каждый наш шаг. Головы эти здесь сушат, а потом отвозят в Мурманск и там, на фабрике, мелют в муку, вырабатывают прекрасное удобрение.
Прежде рыбьи головы выбрасывались в помойки.
За каждую голову фабрика платит по две копейки.
Сушка рыбьих голов — женская работа. Ею занимаются жены рыбаков. Это дает им небольшой, независимый от мужей заработок.
Мы заходили из домика в домик. Нас встречали где по-норвежски, где по-русски, а чаще на обоих языках сразу. Мы опрашивали: нельзя ли где-нибудь переночевать в тепле и под крышей. Всюду все углы были заняты.
— Ведь сейчас сюда со всех становищ съехались. Здесь ход трески лучше, — объясняли нам, извиняясь. — Да сколько йодных рабочих понаехало. Да десять человек надсмотрщиков за песцами. Рады бы вас поместить, но — сами видите — негде.
Отчаявшись, мы решили обратиться за помощью к властям.
— Где сельсовет? — спросили мы встречную женщину.
— Сельсовет? А вот он сушит на берегу свой ярус.
Мы, по городским понятиям, надеялись увидеть здание, а не человека. На Кильдине Сельсоветом зовут молодого, но уже бородатого рыбака из поморов, среднего роста, светло-русого и молчаливого. В сущности он председатель сельсовета, кроме него есть еще секретарь и член.
Но в представлении кильдинцев он вмещает в себя весь сельсовет.
Он недавно вернулся с рыбной ловли и выслушал нас у воды, стоя возле яруса, развешенного на жердях для просушки.
- Вы у Сладковских были? — спросил он.
-
Нет.
-
А дети не помешают вам писать? Там много детей.
-
Конечно, не помещают…
-
Ну, пойдемте.
Он повел нас среди ярусов, домов, перевернутых лодок и жердей с рыбьими головами.
Из окна глянула на нас целая стая голубых детских глаз. Председатель открыл дверь. В лица нам дохнуло чистым домашним теплом.
Хозяева поднялись с табуреток, и головы их ушли под потолок. Это была пара великанов, и мы четверо, с председателем во главе, подняли лица вверх, как ребята, разговаривающие со взрослыми. Поздоровавшись, председатель объяснил, кто мы такие.
— Вот что, Евгений Николаевич, нужно их устроить, у тебя три теплых комнаты.
Великаны задумались.
-
Вы оставили вещи у моего дяди? — спросила нас великанша с сильным норвежским акцентом.
Оказалось, она племянница Карла Эриксена. Дочь его покойного брата. Значит, дети, стоящие кругом у наших ног, — побеги все того же дерева, потомки того же славного кильдинского прародителя.
-
Ладно, — сказал хозяин, — оставайтесь. Но кроватей у нас нет. Придется спать на овечьих шкурах.
Так мы поселились в чистеньком домике великанов.
ДОБЫТЧИКИ ВОДОРОСЛЕЙ
(рассказ писателя в очках)
ПРИБОЙ
Много ли человеку земли требуется?
Небольшая подкова вкруг полярной незамерзающей гавани, чтоб выстроил он крашеные домики, стал спокойствие копить, обручаться с норвеженками, рожать красивых детей и ловить треску. Везде можно жить и везде есть люди, не хуже нас.
Вот я попал на остров Кильдин, на семидесятый градус северной широты. Голо здесь, ни ветки, только океанский ветер глухо ворошит зыбучий мох. И на этом каменном отшельнике я натолкнулся вдруг на редчайшую добычу.
Дело началось с утра. Под окнами кудахтали песцы, на жердях сушились головы палтусов, хозяйка парила какао. По тому, как бесшумно висело белье на проволоке, я увидел, что ветра нет. И все же беспрерывно, неотступно натекал шум. Будто крошились сухие льдины, истаивали. Слышались выстрелы.
Не торопясь натягиваю на плечи пальто, иду. Вижу чугунные отроги воды. . . Прибой!
С океана длинными поперечными стогами подступают валы. Выделяю один, чтоб лучше разглядеть. Вот он поднимается, пухнет, у самого берега лопнул, стремительно раскручивается и клубами, кусками свинца рушится на берег. Вот другой. Шипя отжимает уступчивый берег, — и гулко откатывается, гоня в морс тяжелые, отгравированные камни, как легкие груши. Все время: ручьистый треск, выстрелы, мятель брызг. Новый вал уже бьет через меня. Уши и карманы полны водой. Слетела кепка, на сапогах вздуваются, гаснут пузыри пены . . . Так вот она где, водная стихия! Вот где вечное угрюмое беспокойство, вечное движение омутных глубин! Океан наступает со всех сторон, шумит, потрясает столбы земли. Но не так легко расшатать их. На круглобоком ботике выезжают рыбаки, бот летит на косой отрог, развеваются парус и песня.
ФОРМЫ ТРАВ
Причудливые камни морских берегов уже описаны не раз. Моя нога погрузает в другое — в сырые кустистые водоросли. Проседает до самой земли, идти трудно, а кругом — невозможный тягостный запах. Но что это? Лежат носилки: кусок невода на двух палках, валяются грабли и железные вилы.
Пахнет сеном над лугами . . .
Никакого сена, никаких лугов, а пахнет (я различаю уже) илом; и больницей. Здесь работают люди, что они работают и где они? Или праздник? . . Грабли и вилы на густых водорослях сохнут и отдыхают.
Пробую догадаться, — в голове никаких догадок. Вижу, что морскую капусту подтаскивают на носилках, переворачивают и сушат, но этого мало. Вижу окурок папиросы «Сафо», значит есть здесь и приезжие. По берегу дуги следов. Скручены, перекручены, однако никуда не ведут, — работа вполне замкнута на этом участке.
Может быть, подскажут сами водоросли, — надо разглядеть. Наклоняюсь. Толстый стебель впился, просверлил корешками камень (какая жажда жить!), камень дом его, почва, вместе с домом его выметнул на берег океан. На нем листья — пучек клеенчатых сафьяновых ремней. Как набор богатой шлеи или уздечки. А там просто лежит шершавая рыбья кожа, снятая со спины. Третья водоросль: черные траурные кустики, как обои в комнате меланхолика.
Беру их в руки, ломаю, водоросли толкают меня на размышления. Эти формы я где-то однажды встречал. Первая напомнила новую клеенку в комнате моей знакомой, эта—тихую рябь ночью на Ладожском озере, эта—горелый придорожный куст из раннего детства. Куда ни пойди, встретишь знакомое, отпечаток его ощутишь на себе, себя на нем… Водоросли подсказывают мне о разностном единстве мира, в самой природе вещей заложен социализм.
— Эй, молодка, кто тут работает?
Она походит на любую гамсуновскую фрэкен и русский язык понимает слабо. Улыбается. Показывает на домик с красной крышей.
— Степан Захарич. Главный.
Ну, раз главный, хорошо, — он расскажет мне о морских добытчиках.
ПРИКАЗЫ
Домик, как все домики на острове Кильдине. На стенах корабли под стеклом. Христос масляными красками, и тропические олени, если такие есть. Чистота... Хоть воду с пола пей.
Степан Захарович пил чай, закусывая мармеладом и баранками. Рядом лежали — коробка «Сафо» и два малиновых приказа. На нем были сапоги чуть не до самого горла, — архиболотные. Кстати о сапогах.
Не снабди нас тогда Севзапторг сапогами, пришлось бы мне на Кильдине пребывать в обществе одних лишь домашних хозяек. В конце мая я застал там ноябрь, а на бурых горах ледяные подтеки снега.
Степан Захарович показался мне человеком упрямым, — так и всаживался подбородок в грудь, — и подозрительным. Первым делом он спросил, откуда я.
-
Езжу, — говорю, — по хорошим местам, после буду писать. Очень уж меня заинтересовали ваши водоросли. Убедившись таким образом в моей легальности, Степан Захарович разговорился.
-
Да, хороши водоросли, а веками, как говорится, гнили без толку. До революции у нас этого промысла не было, иод доставали из-за границы. Думали было один заводишко и тот развалился. При соввласти принялись. Сам я из Архангельска сейчас, там работы эти с двадцать шестого года. Изыскания велись, теперь завод. Приглядывался на острове Жижгине, вникал, пристрастился к делу. Тут с двадцать первого года еще, когда я работал в Мурманском исполкоме. Появился один профессор, как говорили у нас, с проблемами. Проблема йода, проблема сахара. Толково говорил, образцы водорослей показывал. Ну, мы и пошли навстречу. Дали денег, профессор — поплыл. Поплыл, поплыл, так и уплыл... По всем видимостям — авантюрист. А идеи запали нам в голову. Сейчас я от Ленинградского Производсоюза…
Да вот, глядите.
Он отодвинул чашку, придвинул ко мне приказы.
Первый:
«Срочно. Выписка из протокола, № 44, Заседания Экономического Совета РСФСР, от 26/4 1930 г. о производстве йода в РСФСР.
5. I. В соответствии с постановлением Совета Труда и Обороны, от 1-го марта 1930 г. о производстве йода в Союзе ССР (Пр. № 12/465, п. 6 прил.) определить программу йодного производства до конца 1930 календарного года в размере не менее 8.000 кгр. йода в Северном и не менее 3.000 кгр. йода в Дальне-Восточном краях».
Дальше предлагалось такому-то учреждению, такому-то... Форсировать. Создать условия. В спешном порядке обеспечить. Но остров Кильдин в приказе не упоминался, и потому я перешел к другому, — Мурманского исполкома.
«Из доклада Ленинградской экспедиции по организации йода на Мурмане (Заседание Президиума Мурманского Окружного Исполнительного Комитета, от 7 мая 1930 г.)
...Результатом произведенного обследования и опроса местного населения является принятое экспедицией решение установить базой для работы, в первую очередь, остров Кильдин, с прилегающими к нему, удобными для сбора, сушки и пережигания местами, и на Западном побережьи Цып-Наволок на Рыбачьем полуострове. Остров Кильдин экспедиция считает нужным признать основной базой, как наиболее, во всех отношениях, пригодной для организации йодного производства (удобная, защищенная от штормов гавань, наиболее благоприятные условия для жилья, наличие залежей местного торфа, благоприятная конфигурация берегов всего острова для вылавливания, сушки и ожигания водорослей, наличие возможности использования для работы части местного населения). В процессе работы в этот же сезон будут обследованы и другие районы Побережья Кольского Полуострова. Намечено до конца 1930 г. выработать йода 2.000 кгр., а в 1931 г. до 12.000 кгр…»
- Ничего еще не сделано, — сказал Степан Захарович. — Неделю, как рабочих привез. Задание правительства — 2.000 кгр. С печами тороплюсь. Сушилки. А то дождь, и пропало наполовину. Водоросли эти мы сушим, пережигаем, а потом уже химическим путем перегоняем золу в кристаллический иод. Но не только иод. Из золы этой калийные соли выпариваются; поташ, — все вещи нужные.
-
Так, так. Завод, значит, нужно строить?
- Надо. А тут этих рабочих не могу устроить. С квартирами плохо. Палаток, транспорта нет. С голыми руками по острову не двинешься. Мороз, как видите, вот и ковыряемся около деревни.
- А две тысячи?
Степан Захарыч почесал щеку.
-
Добьюсь. Вы понимаете, мне рабочих устроить, а там я не горюю. Все в рабочем, иначе машина стоп. Собираемся еще косилки достать, — океан косить.
-
Ваших рабочих можно поглядеть?
-
Обязательно пойдите, сегодня как раз день отдыха. Вон в том большом доме... Но нечем, говорю, похвастать, — жидко.
Прощаемся:
— Заходите.
КОЧЕВНИКИ
Их было четырнадцать человек. С Лены, с Волги, из Череповца, с Ижорского завода, из отряда погранохраны. Приветливый кочевой народ. Какая-то сила пригнала их на край света, потреплет здесь и погонит обратно. Сидит воронежский парнишка лет семнадцати, обкусывая концы струн балалайки, а тот лысый, что читает сейчас Горького, оказывается сапожник из Тулы.
— Надоело спину гнуть, захотелось хлебнуть вольного воздуха.
Все они почти не женаты. Нет связи с местами. Бездомники. Это располагает к затейливой над собой иронии:
— Была изба, да собаки съели.
А живут они и впрямь не ладно, — в двух комнатах, на зеленом крашеном полу. Тут и спят, тут и едят. Постели не прибираются, как рубинами пересыпаны крошками; к стальной подушке прислонился медный опрокинутый чайник. Что бы сказала фрау Марта, если б позвать ее сюда в гости?
— Хлев, братишка, что и говорить. Но... извинительно. Неделю всего как на острове, а на нем случись жилкризис.
Начинаются жалобы. Не горькие, без злобы, от подшуточек больше и по исконной русской привычке.
— Работы мы не боимся, лишь бы харч был. А нет харчу, плох и товарчик. Жалованья не хватает. Получаем шестьдесят пять рублей в месяц, а банка консервов — семьдесят копеек. Сам видишь, пяти недостача.
— Тебе в бухгалтера бы, дядя Вася, больно грамоту хорошо знаешь.
-
Про себя скажу, — говорит волжанин, — от водки сбежал, благо ее здесь нет. До штанов доходило. Племянник мой, тот хуже пьет — литерами, а я четвертями.
-
Другой профессии, значит, ты? Зря, зря не пошел на винный завод следователем.
Выступает ижорец. Одет он в брезентовый плащ с капюшоном, — киевский такой архимандрит. Рот все время смеется, — нет одного переднего зуба, в остальной фигуре — веселая обреченность.
— Ничего не жду от этой периодической жизни. Германская война, гражданская, бог даст, турецкой дождешься. Что наша жизнь? Поесть да выпить, — тут на всем
острове, как на грех, ни одной капли. Самое дорогое — здоровье, и его последние злыдни остались. Ничего не жду. Народ нынче нотный пошел. Умирать надо, под травку. В России хоть под травкой умереть можно, тут — мох.
— Сбежим, — говорит молодой. — Тоска. Пропадешь в этой проклятой дыре.
— Но, но, ребята, расплакались! — вмешивается постарше. — Никуда не сбежим, раз приехали. Силой никто не вез, да и сами сорвать работу не решимся. Не устроены, видите ли, мало время. А как наладимся, потеплеет, глядишь и отлегчит от сердца. Мы это понимаем, что золото вывозить за границу не расчет, и что иод — штука важная. Сам другой раз палец порежешь, а смазать нечем. Ребята по другому скучают, уж очень легкая работа. Шевели граблями, — это и женщины могут и подростки. С другой стороны: деньги брошены большие, а сделано немного. Сидим на одном участке, переливаем другой раз из пустого в порожнее. Степан Захарович бегает, но никак не добьется бота хотя бы.
А брать даром деньги и делать вид работы нам не хочется.
Очень хорошо, что этим кочевникам даже не хочется впустую проскакать жизнь, делая всего лишь «вид работы». Очень хорошо, что иод для них не хозяйское дело, а свое. Пусть ворчат, пусть уедет часть обратно, — это никак не грозит нашей социалистической промышленности.
Они угощают меня махоркой, я их папиросами. Говорим о том, о сем, рассказывают «случаи из практики», расспрашивают о ленинградских заводах, ночлежных долгах, что «в кино показывают» и «как с продуктами».
— Тут другая еще загвоздка, — вставляет лысый сапожник, — на острове песцовый заповедник. Ежели мы завод, то они против. Вредить будто бы станет песцам, особенно во время помета, и песцовый директор не прочь нас выжить.
Все это неважно, — договорятся! и песцы нужны, и нужен иод... У советского жителя не мало ран. Но и побед! — не будет завода в Кильдине, будет в Цып-На-волоке, а вылавливать водоросли близ Кильдина и на берегах его никто запретить не может. Дело начато, задание дано — так или иначе выполнят. Я ухожу от рабочих с хорошим чувством. Мы желаем друг другу удачи:
— Может встретимся, — говорят. — Гора с горой не сходится, а человек с человеком... Счастливый вам путь!
ЗАМЕТКИ О СЛАДКОВСКИХ, О БЕГЛОМ ПРЕСТУПНИКЕ, О ПОЛУНОЧНОМ СОЛНЦЕ И О РЫБАЧЬЕМ КОЛХОЗЕ
ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ КРАСИВОГО
Мы живем здесь как в санатории.
На крашеном полу — мохнатые овечьи шкуры. На шкурах — наши одеяла. На одеялах — мы.
Над столиком Ленин с «Правдой» и руках. Над Лениным орел, терзающий зайца. Под ним олени в прекрасном лиственном лесу. Что представляют себе кильдинцы, глядя на этот лиственный лес? Олени им хорошо знакомы, их много в соседних становищах на материке. Но эти липы, вязы, буки должны кильдинцам казаться еще невероятнее и причудливее, чем нам кажутся леса Амазонки.
А под оленями висит барометр. Это уже не эстетика. Это рабочий инструмент. Барометр нужен рыбаку как лесорубу топор, а сапожнику шило.
Возле окон на высоких табуретках в горшках стоят простенькие растеньица, бледные, чахлые, с мелкими листиками. Вряд ли кто-нибудь стал бы держать их у нас в Ленинграде. Но на голом Кильдине, где кроме мха не растет ничего, они кажутся истинной роскошью. Самое поразительное в доме — чистота полов. Сколько бы раз за день мы ни покидали дом, вернувшись мы находили пол только что вымытым. Наша великанша-хозяйка ежедневно мыла с мылом даже крыльцо перед домом.
У нее круглое румяное лицо.
— Мы считаемся середняками, — говорит она мне, с трудом справляясь с русским языком. — Но на самом деле мы — бедняки. Все наше богатство — дети.
Она права. Трудно представить, что в этом суровом климате, где не живут даже воробьи и вороны, могли вырасти такие здоровые, развитые и веселые дети. Их пятеро.
Одну из девочек зовут Венерой.
— Венера — норвежское имя? — спрашиваю великаншу.
— Нет, русское, — отвечает она.
— Ошибаетесь, такого русского имени нет.
Великанша задумывается.
— Советское имя, — говорит она.
Сегодня у Сладковских с утра неспокойно.
Он ночью уехал за ярусом и не возвращается. На море шторм.
Хозяйка весь день молчалива. Она чересчур много моет. Скоблит мочалкой пол, потолок, плиту.
Мы вышли погулять и вернулись часам к шести.
— Вас спрашивал Степан Захарыч, — говорит она нам спокойно.
Потом вдруг, с потемневшим лицом, грудным голосом:
— А моего еще нет.
Великан вернулся в одиннадцатом часу вечера, усталый и угрюмый. Он сидит за столом при свете ночного солнца и ест вареную треску. Жена стоит возле стола и глядит на него.
Оказалось, он нашел в море свой ярус разорванным и десяти тюков не досчитался. А у председателя сельсовета, с которым он встретился среди волн, пропал весь ярус.
-
Яруса не могли оторваться сами, их украли вместе с рыбой, — сказал великан убежденно.
-
Кто же мог украсть? — спросил я.
-
Не знаю, может кто из западных становищ. А может быть финны. Раньше они часто приезжали тайком таскать яруса. Но теперь пограничников не так легко обмануть.
Пираты существуют и в наши дни.
Когда ленинградцы говорят о полярном вечном дне, они представляют себе нечто вроде белой ночи. Но белая ночь замечательна закатом, переходящим в утреннюю зорю, белая ночь прекрасна синеватыми сумерками. А полярный день не знает ни закатов, ни зорь, ни сумерек — солнце никогда не заходит. На него можно смотреть не мигая. И свет его только прикидывается солнечным светом, в нем тайно заключена темнота. Ложась спать, мы сдвигаем занавески, чтобы создать в комнате хоть подобие сумрака. Сквозь стены явственно слышен прибой. Можно расслышать в отдельности каждую волну.
На Кильдине забыли, что такое частник. Старики еще, пожалуй, помнят, но молодежь самое слово знает только из газет. Ни одного частника нет на острове с 1923 года. Кильдинским жителям деньги, в сущности, не нужны. Рыбак получает в кооперации все, что нужно, в обмен на рыбу. Когда рыбы нет, кооперация отпускает товары в кредит. Во время путины наоборот: рыбак сдает в кооператив несколько тонн трески, ничего не получая взамен. Он кредитует кооперацию. Зато до следующей путины он может брать бесплатно все, что захочет.
Слово «колхоз» вызывает в памяти трактор, поля без межи, обобществленный скот. На Кильдине нет ни тракторов, ни полей. Однако, колхоз здесь есть. Но этот колхоз не, «артель по совместной обработке земли», а «артель по совместному рыбному лову». Кильдинский колхоз, несмотря на свою молодость, имеет длинную, тяжелую и бурную историю. Жизнь его протекала в непрестанной борьбе. В борьбе с косностью населения и бюрократизмом учреждений.
Косность колхоз победил, но бой с бюрократизмом в самом разгаре.
Колхоз основали в 1927 году восемь рыбачьих хозяйств. Объединили средства производства: восемь ярусов и восемь парусных ел. Но в первую же путину выяснилось, что количество рыбы, пойманной колхозниками совместно, нисколько не больше того количества, которое они поймали бы все, если бы ловили по одиночке. Виною были кустарные средства производства.
Колхозу необходима моторная ела. Моторная ела — трактор рыбачьих хозяйств. Она увеличивает улов в несколько раз.
Тут-то и начались мытарства. Поехали за моторной слой в Мурманск, пошли по учреждениям.
Там обещали выдать елу через три месяца. Подождали. Поехали снова. Прежний ответ: — Погодите; месяца через три…
Время идет, приближается новая путина. Кильдинские колхозники мчатся в Мурманск:
— Дайте скорее моторную елу! А то нам снова придется
встречать путину на парусах.
В Мурманске удивились:
— Где ж вы раньше были? Мы роздали все моторные
елы другим становищам.
Напрасно кильдинцы доказывали, что они приезжают уже в третий раз. Им пришлось новую путину встречать, как и первую, на маленьких тихоходных парусных елах. И с тем же результатом.
Колхозников выручил директор песцового заповедника — партиец. Возмущенный издевательством над колхозом, он сам отправился в Мурманск.
Он объяснил там, что кильдинские рыбаки находятся в худших условиях, чем рыбаки других становищ: они лишены телефона. Остальные становища соединены телефоном. Если где-нибудь появится треска, о ней сразу узнают в самых отдаленных частях побережья. Но кильдинцы ищут треску наощупь, в темную. Моторную елу им следовало дать в первую очередь. Подобные рассуждения мало подействовали.
— Мы бы с радостью дали, да не знаем, где взять.
Предприимчивый директор потребовал список моторных ел Мурманского округа. И по списку установил, что некоторые моторные елы розданы частным лицам в аренду.
Директор перестал просить.
Он угрожал перенести вопрос в печать, довести до сведения центра.
И добился своего.
На Кильдин он привез моторную ёлу.
Теперь конец мая. Путина, — третья путина со дня основания колхоза — в полном разгаре. Вы думаете, что колхозники плывут сейчас по океану в моторной еле и растягивают свои яруса?
Вы ошибаетесь.
Колхозники сидят на берегу и чинят мотор. Им выдали елу с испорченным мотором.
Они чинят его уже больше двух месяцев и когда кончат чинить — неизвестно.
А треска пойдет снова только через год.
- Ну, как у нас в Ленинграде, земляки? Оправился уже после наводнения, что было в двадцать четвертом? Много новых домов понастроили? Теперь, поди, трамвай всюду бегает. Конки есть еще или нет? Слышал, Путиловский расширяют. А на Васильевском острову бываете?
-
Вы знаете Ленинград, наезжать случалось?
-
Да я и сам питерский. Гвоздильный завод на Васильевском слыхали? Ну, вот я там и работал. На 3-й линии.
А мы-то приняли его за норвежца!
- И давно вы уехали из Ленинграда?
-
Да уж двадцать пять лет там не был. С девятьсот пятого года.
Он в самодельной шерстяной фуфайке, в болотных сапогах. Длинные рыжеватые усы его закручены. Он занят перестройкой дома. Стена снята, и в отверстие видны столы и кровати. Он стоит перед нами, держа в одной руке доску, в другой топор.
- Уменьшаю свой балаган, — объяснил он. — Не отопить. Дети выросли, разъехались, куда мне такой большой? Разберу две комнаты и будет у меня дров запасец.
-
Как вы сюда попали?
-
В девятьсот пятом году людей заносило и подальше Кильдина. Меня сначала выслали в город Онегу, на Белое море…
- За что?
- За Гапона. О девятом январе слыхали? Ну вот, и я был на площади перед дворцом со всем нашим заводом. Потом меня арестовали, как зачинщика, и выслали в Онегу. Было нас в Онеге политических двадцать шесть человек. Городишко рыбачий, ни чем другим заняться нельзя, вот и я стал рыбачить понемногу. Самое это лучшее — промысел. Хоть трудно, но зато свободно. Промышляй, как вольный человек. Вышел в море и плыви куда хочешь, сам себе господин.
-
Да как же вы на Кильдин попали?
-
На Кильдин я попал позже, из Норвегии, когда уже был женат...
-
Вы и в Норвегии были?
-
Три года там прожил. Меня отвез туда из Онеги капитан парохода «Николай II». Не знаю, как теперь этот пароход называется и где он плавает, а в то время ходил он между Белым морем и Норвегией. Капитан его был наш, то есть сочувствовал революции. И начал он потихоньку сажать ссыльных к себе в трюм, человека по два, по три, и отвозить в Норвегию. Так за два лета всех и перевез.
-
Двадцать шесть человек?
-
Двадцать шесть человек. Когда я приехал в Норвегию, у меня было тридцать пять копеек в кармане. Я не знал языка. На завод меня нигде не брали. Один старый рыбак взял меня к себе в подручные. Мало-по-малу я раздобыл небольшой бот, приобрел парус, выучился по-норвежски, женился...
-
А потом на Кильдин попали?
-
Погодите, сейчас. Зажил я в Норвегии хорошо. Но мучила тоска по России. Не знаю, отчего тосковал; в России мне никогда не жилось хорошо. Но хотелось хоть одного русского человека повидать, поговорить по-русски. Три года промаялся. Наконец, чувствую, надо вернуться. И решил я переселиться на Кильдин.
-
Почему же именно сюда?
-
А куда же мне было ехать? Вернись я в другое место, меня на каторгу укатали бы. А тут была вте времена такая глушь, что и представить себе невозможно. До ближайшего городового тысячи верст непроходимых болот и лесов. До Норвегии близко, сел в елу и поехал, — ищи тебя в океане.
-
И перестали тосковать? Ведь здесь были одни норвежцы. Пожалуй, уж лучше остаться в Норвегии.
-
Нет, нет, все-таки тут Россия. Уж и тогда здесь жило трое русских, женатых на Эриксеновых дочках. А перед путиной собирались поморы со всех становищ. И кроме того, отсюда все русское побережье открыто, соскучился — поезжай в Териберку, хоть в самый Архангельск. Было с кем поболтать по-русски.
Он говорил охотно, со старческой важностью. Ему приятно рассказывать свою историю новому человеку. Нового человека на Кильдине встретишь не каждый
день.
— А как вы теперь? — спрашиваю я. — Общественную работу ведете? Ведь вы старый рабочий-металлист.
— Какой я металлист? Я рыбак. Если бы меня теперь на завод, я бы не знал, с какого боку к станку подойти. Все забыл. А общественной работой пробовал
заняться, да бросил. Не могу с нашей молодежью поладить.
Он нахмурился. Концы длинных усов опустились.
-
Вот хоть колхоз. Я разве против колхоза? Колхоз — самое важное дело. Но колхозы по-моему нужно делать разные: одни для стариков, другие для молодых.
-
Почему так?
-
Не могут молодые работать со стариками. Никогда не сговорятся. Молодой в одну сторону тянет, а старик в другую. У стариков опыт есть, а у молодых все хи-хи да ха-ха. Вот я, например, посмотрю на море и скажу, какая погода через час будет, какая ночью, какая завтра. А молодой разве это может? Как же нам вместе работать?
-
Вот старики и должны учить молодых.
-
Это верно, — говорит он, подумав. — Я бы учил, если бы у меня характер был полегче.
Должно быть, действительно, у него характер нелегкий. Лицо его вдруг становится свирепым.
— Разве они хотят у нас учиться? Они уверены, что сами лучше нас все знают. Вот я вам расскажу, как два года назад ходил с нашими молодыми колхозниками
в парусной еле вытаскивать ярус.
Мы, конечно, хотим.
— Утро было — прелесть, — начал он. — Океан сияет, ветерок легкий, ну чуть-чуть. Но я вижу, что будет шторм, да еще какой! Как вижу? Этого не рассказать. Тут все дело привычки. Небо синее, да не такой синевы как надо при ясной погоде. Море сияет, да не так, тускло, будто олово. И воздух густой. «Собирайтесь!» — кричу
я им на берегу. «Живее! Нужно до шторма ярус вытащить». А они мне: «Какой там шторм!» И собираются с ленцой, еле ноги волочат. Вышли мы поздно. Но погода
все хороша. Они думают, — времени много, можно еще покататься; сидят в еле и прохлаждаются, берега рассматривают. Я им: «скорее, сейчас шторм будет!» А они опять: «Спятил, дядя!» Пока тихо, им все пустяки. Минут через двадцать вижу я на горизонте тучку, совсем черную. Ну, говорю, нужно домой возвращаться. После шторма за ярусом поедем. Они хохотать еще громче. «Мы еще с ума не сошли. Когда еще твой шторм будет? Успеем». Только начали ярус тащить, как небо заволокло, ветер — ураган, волны выше мачт и дождь со снегом. Вот тут-то они и зазвонили: «Что теперь, дяденька, делать?» А что делать? Бросили мы наш ярус, убрали паруса и сели за весла. Попробовали подойти к Кильдину — нельзя, волны разобьют о скалы. Попробовали к материку, там бурун еще сильнее. Двое суток нас под дождем таскало но океану. Так замерзли, что колени не сгибались. Когда на третьи сутки пришли, наконец, в Териберку, пришлось нас из елы на руках выносить.
— И что ж, после стали вас молодые слушать?
-— Какое там! Еще хуже. «Что, — говорят, — с того, что ты погоду знаешь? Погоди, мы и сами научимся. Вот ты молодым был, так народ вперед тащил, а теперь состарился, так назад тащишь». Ну их!
Он замолчал и оторвал топором от своего дома еще одну доску. Мы собирались уходить, но он остановил нася:
-
Вы что, книги пишете?
-
Пишем.
-
Никто так теперь не пишет, как в старину писали. Вот Толстой и Горький — это были действительно писатели.
И отвернулся.
ПЕСЦОВЫЙ ОСТРОВ
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Я шел по берегу океана. Ночь, но окрестность ясна без границ. Только горы сделались легче. Словно палатки из синего бархата. И будто внутри они пусты. Пожалуй, если ветер усилится, он продавит новые впадины в склонах. В его власти вылепить горы по-своему. И вытряхнуть залежавшийся снег из ложбин.
Эта светоносная ночь - признак севера. Собственно, день никуда не ушел. Он только затих, не утратив окраски. И говорит приглушенным голосом. Может быть, шепотом. Или совсем онемел.
Слева от меня — Могильное озеро. Овальное и небольшое, оно примыкает к легендам. Говорят, здесь стоял монастырь. И некогда чье-то нашествие с моря разгромило монахов. Их бросили в озеро. С тех пор (впрочем, с каких это пор?) в озере ничего не живет.
То-есть, действительно, на определенной глубине и не зависимо от преданий, озеро пропитали ядовитые газы. Я иду к маяку. Светлая башенка с остренькой крышей. Как деревянный зуб на вершине холма.
И тогда к Могильному озеру с берега, подскакивая на камнях, и потом по ослепительным пористым льдинам, еще не размытым водой, сбегает фигурка песца. На фоне камней — это быстрая бурая тень. Льдина ей сообщает рельефность. Льдина подносит песца (как на белой тарелке), с короткими цепкими лапами, с грузным шлейфом хвоста. Он резвится на льдине, тяжко подпрыгивает, — ржавый пушистый комок, — и сует мордочку в проруби. Место действия — остров Кильдин. Время — 26 мая.
ВТОРАЯ ПОПЫТКА
Дни Соловьева, заведывающего пушным заповедником, похожи один на другой. Это, конечно, неверно. В жизни нет одинаковых дней. Разны направления ветра на острове («подвижная струйчатость»—говорят звероводы), изменчива облачность, в бухту внедряются боты, рыбаки снаряжаются ж лову.
Но дни Соловьева роднит непрерывность заботы.
Если б Соловьеву сказали, что в голове его только и бродят песцы, он, пожалуй, обиделся бы. Мысли о песцах привычны, как собственный голос. Кстати — голос у Соловьева тонок и с присвистом. Соловьев выдувает слова, будто играет на флейте. Сам он худ, белобрыс и вполне соответствует голосу.
Правда, что в песце любопытного? Песец — это сектор хозяйства. Песцом ведает пушный синдикат. Песец — единица валюты. Госторг переправит песца за границу. И женщины с теплой блистающей кожей, чужие, враждебные женщины, возложат на мягкие плечи — тонковолосые, дымчато-голубоватые, душные шкурки. Удивиться песцу — все равно, что удивиться столу, стоящему издавна в комнате, или вдруг изумиться жене или собственным детям. Соловьев беспокоился о песцах почти инстинктивно. Вот он вышел из домика и направился к Людвигу...
...В данном случае очерк не состоится. Задание будет не выполнено. Я перебираю дневник. Страницы испаряют образы виденного. Картины вытягиваются до потолка.
А что, если разрешить себе вольность и пустить материал на свободу? Пусть живет, как ему вздумается. Что-то к нему прибавилось, нечто исчезло. Это, в общем, близко к действительности, но она снимается с плоскости и вытянулась по спирали. Может, я сам выращиваю новую неожиданную природу тем, что внимательно вглядываюсь в нее.
А возможно, я не при чем. Тема развивается самостоятельно.
И добавлю в свое оправдание. Я люблю добросортные точные очерки и питаю пристрастие к цифрам. Но на этот единственный раз я ушел в противоположную сторону. И наблюдаю возникновение рассказа. Он выкарабкивается из воображения, как пловец из воды. Сначала только руки и плечи. Лицо залепили мокрые волосы. И весь он еще не просох, не одет. Назовем его предварительно —
ПЕСЦОВЫЙ ОСТРОВ
1
Врач Покровский выбрал направление сам. Правда, не без подсказки знакомого, карела, любившего Север. Но второе и главное, — жена уехала в Крым, и этим отъездом, хотя ничего не было сказано ясно, обрывалась их совместная жизнь. Подобный разрыв Покровский не мог представить заранее. Они оба не молоды. Покровский не знал, что делать о событием, неожиданно вторгшимся. Мучительная неловкость. Будто обрушилась стена его комнаты, и он ходит, ест, спит — и все на виду, и соседи смеются из окон. И странно смотреть на Елену. Совсем другое лицо, говорит чужими словами, даже голос стал незнакомым. Какая-то новая женщина. Стоя рядом с женой на Курском вокзале, Покровский не верил, что провожает жену. Уезжала дальняя родственница, по какому-то старому праву называвшая Покровского уменьшительно. Имя третьего не произносилось, но Покровский знал, что тот уже в Севастополе.
- Ну, скажи мне сама, до конца, — беспомощно думал Покровский.
-
Поехал бы вместе со мной, — смеясь, протянула Елена. — А то — Север. Зачем людям Север? Я б его совсем отменила.
Почему она так говорит? Вот слова совершенно пустые. Воздух, бесцельно переработанный в звуки.
— Леночка, нам обоим стало бы легче, — запинаясь начал Покровский.
Ему казалось, что тенистый перрон и железная стенка вагона, и прочная сцепленность, собранность поезда, — все зависит от конца его фразы. Все начнется сначала и заново, в других формах, видах, окрасках, разрешится, как арифметическая задача, стоит только добраться до правды.
— Очевидно, мне надо садиться, — потянулась Елена губами к Покровскому.
Он увидел морщинки у глаз и на лбу под клейкой сеткою пудры. Как она постарела! И зачем это все?
— Я тебе напишу, — крикнул он в вагонную дверь...
Его отпуск начался вскоре.
Он совершил последний обход по палатам. Землистые лица больных в рыхлых ямах подушек. Желтая кожа на выпирающих ребрах. Мир казался Покровскому неизлечимым. Эти ребра и позвонки. Словно костям, глубоко спрятанным в человеческих телах, надоело скрываться, и они выходили наружу. Кричали о своем существовании. Бунт костей — предвестие смерти. До чего мы все же уродливы!
Покровский изумился этой мысли, столь лишней в обиходе врача. Безошибочная, как столбик ртути в термометре, мысль показывала переутомление. В дороге Покровский был занят собой. Хотя он не ощущал ни себя, ни дороги. Сев на диванчик купэ, он понял, что может не думать. За него думал поезд, умный поезд, сознательно изворачивающийся в заграждениях сосен и гор. Трогающий рельсы звонким и гладким прикосновением. Во-время останавливающийся и чутко снимающийся с места. Поезд, выполняющий назначение, вобравший Покровского внутрь своей вздрагивающей оболочки.
Немыслимой красоты пейзажи катились по стеклам. В них не было места Елене. Они не соприкасались с Покровским. И в полнейшем безразличии их к телу Покровского было что-то справедливое и дающее облегчение.
— Горы, — очнулся Покровский однажды, увидев огромные синие тени в белых начесах снегов. — Хибинский массив. Куда я попал?
На другой день, побродив по Мурманску и не сыскав ночевки, а также желая продолжить движение и вырыть между собой и тем, что считалось до сих пор его жизнью, непроходимый обрыв, он сторговался с рыбаками и выплыл на Кильдин.
2
Он добрался мокрый, замерзший, раскиданный качкой на части. Океан заглатывал бот, жевал его губастыми волнами, и, окончательно прожеванным, выплюнул в остров. Внутри Покровского, как в комнате во время уборки все стояло вверх дном. Он не знал ни души. Запечатанный наглухо ветром поселок. Люди спали. Полярная ночь. Облака накрывали бледное солнце и снова освобождали его. Освещение мгновенно и беспрестанно менялось.
— Надо просохнуть. Я схвачу воспаление легких.
Скользкие камни, изумительно выточенные и влажные
зажурчали под каблуками, когда он двинулся к домикам.
И тут, пробравшись сквозь изгородь, обнесшую один
из дворов, к Покровскому подкатилось животное.
Коричневый мешок свалявшейся шерсти. Зверь линял,
шерсть редела с боков и была неопрятной и тусклой. Воровато крадучись, полусобака-полулиса, зверь вытянул чуткую морду. Он забавно прошелся возле Покровского, чертя неуклюжие петли. Хищные уши стояли
остренькими уголками. В глазах жадная, меткая зоркость. Неловкий и быстрый, домашний и настороженный,
зверь ковылял, не смущенный соседством Покровского!
Драгоценный хвост, слишком пышный для недлинного
тела, волочился по камням.
Этот-то хвост, великолепный и мягкий, напомнил Покровскому разговоры на боте.
— Песец! — чуть не вскрикнул Покровский. Ведь ему
сообщили, что остров отведен для песцов.
Но в спотыкающемся и самодовольном появлении животного, в его самоуверенном существовании на пустынной неразбуженной улице, было столько осязаемого невероятия, что Покровский почувствовал себя ребенком и на страницах Майн-Рида. Ему стало весело. Накрепко заваленная годами вера в неожиданность жизни вдруг взволновала его. И тотчас Покровский понял, что необходим собеседник, — любой, кто бы он ни был. Лишь бы он разделил удивление Покровского и подтвердил, что догадка его о песце справедлива. Словно повинуясь этой необходимости, дверь домика скрипнула. На пороге стоял человек.
— Послушайте, это песец? — шагнул сквозь ветер Покровский.
Человек смотрел и молчал. Коренастый, с плечами, широко влитыми в куртку. Глаза светлы и серьезны.
Лицо казалось и важным, и прямодушным до детскости.
— Ведь правда же? Посмотрите сюда. Вот он пробежал! — крикнул снова Покровский, невольно принимаясь жестикулировать, будто он обращался к глухому. Однако, животное скрылось. Улица в пустынной своей обнаженности осталась вновь неподвижной. Деревянные стены светились серовато-зеленым сиянием. Камни прозрачны и неестественно хрупки. Может, это от холода, — в камнях и стенах особа стылость и звонкость. И Покровскому стало невыносимо мерзнуть с вещами в руках.
— Я приезжий! — Покровский махал чемоданом. — С бота! Оттуда! Да скажите вы толком, где тут можно согреться?
Гнев Покровского не омрачил человека. Чуть подавшись назад, он кивнул пригласительно. И повернулся. Его спина погрузилась в сумрак передней. Покровский ступил на крыльце, опасаясь отстать. И сразу же началась комната.
3
Легкая комната из узких точеных планок. Нарядно крашеная в свежую зелень. Бухта влегла в квадратные окна и оперлась о подоконники.
Вода крутилась и мыльно кипела за стеклами. Ее шум проникал сквозь стены, приглушенный и шелковый. Острые мачты мигали и прыгали, напоминая черные молнии. Шторм, как он представлялся из окоп, утрачивал грозность. Он превращался в щедрое зрелище. Его умеряло тепло, живущее в комнате. В низкой железной плитке копошился огонь.
Белого металла незапятнанный чайник выгнул шейку, как лебедь. Отражения сновали в его нагретой поверхности. И над входом в соседнюю комнату, обдавая пространство беззастенчиво алым пыланием, висел длинный до полу занавес.
Хозяин шагал в своем полном красок жилище. Полном света и чистом, как зеркало. Он вынул стаканы из шкафа и крупно колотый сахар.
Покровский молчал, не пытаясь искать разговора. Чай желтел перед ним и пузырился. Хлеб лежал, разделенный на ломти. Все спокойно. Ощущение качки рассеялось. И вдруг, за неразбавленно красным занавесом, раздался тоненький голос.
Он сразу нарушил молчание, прозрачно стоявшее в комнате. Это плакал ребенок, сонно и горестно. Может, он продолжал еще спать и боролся со сновиденьями плачем. Голос был непонятен. Покровский вздрогнул.
Хозяин обернулся и мягкими шагами, неидущими к его прочному телу, направился к занавесу. Было что-то нарочитое и робкое в опасливой походке грузного человека. Из-за занавеса доносились слова. К изумлению Покровского, их произносил хозяин. Напоминающие ласковое ворчание звуки. И на незнакомок Покровскому языке. Плач прекратился так же сразу, как начался. Продолжая разговаривать, хозяин вышел обратно. На этот раз он обратился к Покровскому, пытаясь ему что-то объяснить. Он касался рукою лба и качал головой. Растерянно улыбался, недоумевая пожимал плечами. Видимо, он очень волновался, если пренебрег своей неподвижностью и не соглашался признать, что им не понять друг друга. Покровский поднялся навстречу. Это было мучительно. Ни одного знакомого корня. Слово возникало за словом. Человек будто показывал Покровскому никогда невиданные предметы неизвестного назначения.
И тогда в комнате обнаружился еще собеседник.
4
Он вошел, видимо, несколько раньше. Его белесые прыгающие брови сливались с бледною кожей. Маленькая голова, низко обстриженная, походила на облупленное яйцо.
— Девочка у него больна, — сверкнул он золотыми зубами. — Хворает последнее время. Вот он и волнуется.
Покровский будто проснулся, выходя из своей немоты.
— Вот в чем дело! — Он обрадовался понятной речи пришедшего. Доступные сознанию слова сразу сделали естественной комнату. Обстановка мгновенно нашла свои определения. И в ней нашел себя и Покровский. — Я врач. Передайте ему. Я ее осмотрю.
— Так вы, значит, не из Пушхоза? — огорчился в ответ новый гость. — А я решил, вы ко мне, да запутались.
— Позвольте, при чем тут Пушхоз?
-
Пушхоз тут самое главное. Я заведую заповедником.
-
Очень рад. Но давайте, осмотрим ребенка. Кстати, что это за язык?
-
Норвежский язык. Здесь много норвежцев. Людвиг не понимает по-русски.
Ребенок лежал, потерявшись в деревянной кровати. Розовый, жаркий. Ему было около двух. Он морщил коричневые из нежнейших шерстинок брови. И казалось, он улыбается. Но дышал громко и трудно. Людвиг стоял за Покровским, вытянув голову. Он наклонялся вперед, когда Покровский слушал ребенка. Переступал с ноги на ногу, отражая движения Покровского. Тело Людвига все напряглось. Словно усилием мускулов он мог облегчить работу врача. Собственным вниманием сообщить Покровскому зоркость.
- Ничего, — обернулся Покровский, вспомнив, что взял аспирин. Людвиг смотрел ему в губы.
-
Ни-че-го, — произнес он с натугой. Оба поняли впервые друг друга.
-
Ничего, ничего, — засмеялся заведующий, хлопнув Людвига по плечу.
Все направились к выходу. Все улыбались. Каждый своему и каждый по-своему.
- Где же мать девочки? — Покровского удивило это собрание рослых мужчин вокруг детской постели.
-
Матери нет. Мать его бросила, — кивнул заведующий на норвежца. — Да и ребенок не его. Тут целое происшествие.
5
Вечером, отоспавшись, Покровский вышел на улицу. Ветер ослаб. Бухта светло зеленела. Боты упруго касались ее недвижной поверхности. Плоские, как лопухи, рыбьи головы сохли, нанизанные на веревки. Целые рощи рыбьих голов. Редкие фигуры трудились у домиков. Где-то пилили дрова. Воздух позванивал, распиленный резким железом. Катится стадо овец. Подскакивающие серые холмики. Двое рыбаков спустились к воде. Лодка осела под их сапогами. Узкие весла раскрылись и упираются в жидкую зелень.
Покровский брел от строенья к строенью. Вытянутые вдоль бухты, они повторяли друг друга. Он обнаружил кооператив и зашел спросить папиросы. Приказчик отпустил ему купленное, не поинтересовавшись, откуда он взялся. Немногие покупатели бегло глянули на Покровского и вернулись к своим разговорам. Отсутствие любопытства к новому лицу слегка удивило Покровского, так как в нем самом, напротив, возрастал интерес и желание проникнуть внутрь окружающего. Хотя окружающее это извне не выглядело чрезвычайным.
Он вступил в избу-читальню и коснулся ветхих московских газет. Забрел в клуб и даже поднялся на сцену. Крохотный ящик в холщевых декорациях, изображавших избу, походил размерами, запахом, скрипом подмосток на тысячи однородных сооружений. Так же, как кооператив, лишь мелочами отличался от своих бесчисленных сородичей. И так же, как бухта вызывала в памяти крымские бухты. Откуда ж бралась любознательность? Радостно ощущая ее толчки в теле, Покровский затруднялся определить ее настоящий характер.
Рыбак на мостках, согнувшись, катит боченок.
Песцы юлят между лодок. Один валит другого на спину. Их лай, хриплый и жалкий, похож на кудахтанье. Рыбак закричал на песцов, и те отбежали, оглядываясь.
И вторичное появление песцов опять не вязалось ни с чем знакомым доселе. Поселок сразу вырвался из привычных представлений и занял отдельное место. Поселок требовал изучения, как ни с чем не сравнимая особь. — Ведь это Ледовитый океан, — вспомнил Покровский. Ледовитый! В самом деле. Имя, сложенное из скал, восстало в душе — Роальд Амундсен. Имя, будто принадлежащее не человеку, а горному кряжу.
- Хозяйство мое наблюдаете? — сказал Соловьев, заведующий заповедником.
-
Да, я еще утром заметил. Какое странное место! Собак не видать, песцы снуют на свободе.
-
Собак отсюда мы вывезли. Чтобы не рвали песца. Теперь ему полная воля. Ворует в поселке, что хочет. Вот с кошкой ему не сладить. Кошка от него отбивается. А зимой у меня вдвоем жили мирно. Песец бродит по комнате, а кошка его за хвост. Раз смотрю, сидят в одном ящике вместе, и ничего, не поссорились. Не зайдете ли, чаю напьемся?
Закусили сладковатой вареной треской. Пили чай с баранкой и клюквой. Жена Соловьева, большеглазая, тихая, белая, как все на этой земле, подставляла стаканы. Двое детей топтались по комнатам.
— Зачем вы приехали? — спросил Соловьев. Покровский не знал, что сказать. Едучи сюда, он представлял Кильдин какою-то полою формой, которую он
заполнит своими размышлениями. В беспрестанно вращающейся Москве Север мерещился неподвижным. Покровский чувствовал себя разделенным на части Москвой.
Его по частям развозили трамваи. Улицы растянули его существо до самых окраин. Даже во сне собраться не было сил. Он так и спал раскиданный по заставам. Океан должен был ограничить Покровского, как ограничивал линию берега.
Но все это теперь получалось иначе.
Остров Кильдин не пуст. Север не неподвижен.
— Впрочем, к нам иногда заезжают. Недавно писатели были. Совкино собирается. Инструктора жду из Пушхоза. Да вы, вероятно, турист?
Соловьев обрадовался, найдя обозначение гостю.
— Пожалуй, турист. У меня отпуск. Всех тянет на Юг. А я Севера никогда не видал. Надо же иметь представление.
Слово «Юг» коснулось тела иглой. Но укол был мгновенен. Острие во-время выдернуто.
-
Что ж Север? Чего тут особенного? Мы живем и не смотрим. Да и время сейчас еще раннее. Вот, в июле и в августе трава нарастет. — Соловьев улыбнулся, припомнив траву, как редкое зрелище.
-
Вы-то сами давно здесь?
-
Скоро год. Жил на Новой земле. Потом перебрался в Архангельск. Там возился с лисицами. Осторожное дело. Отличный лисий питомник. Живут они в клетках проволочных — вальерах. Следишь за ними круглые сутки. Даже ночью, и то подымался на вышку посмотреть, что они делают. А однажды случился пожар. Сбились с ног. Нужно было переводить лисиц в старый питомник. Целый месяц не спал.
-
А здесь только песцы?
-
Да. Сейчас они некрасивы. Их надо осенью видеть. Шерсть вырастет длинная, гладкая, голубая. Но я и белых люблю, хоть они и дешевле. Чистенький он, блестит, мордочка черная, глазки остренькие.
-
Ну, а много их?
-
Самое меньшее триста. Им остров очень подходит. И бежать некуда. Будь льдины зимою на море, удрали бы на материк. Тут корм подходящий. Песец не брезгливый. Ест все, что море выбрасывает. Рыбу, водоросли. Мясо подкладываем. Кости. Молодому песцу нужно зубы точить. Даже варим компот. Но это все больше зимой.
-
А бьете?
-
Нет, только чистим породу. Проводим через кормушки-ловушки, отделяем бракованные экземпляры. Белых выведем всех понемножку. Наша задача — развести голубого. С Командорских островов в декабре перевезли сто голубых. Часть перетряслась в море, перепугалась, не выжила. А остальные освоились. К концу пятилетки их будет тыщи четыре. Тогда начнем продавать за границу. И шкурки пойдут, и племенной материал. Колхозам начнем раздавать. Ведь это ж какое хозяйство! Целиком себя оправдает. Главное, пусть размножаются.
Соловьев слегка заикался. Лицо его покраснело. Негромкий голос дрожал.
— Вот сейчас — центральное время в году. Спариваются песцы. Нужно им не мешать. Не пускаю ходить поперек острова. Должны они правильно спариваться. Делаем опыты, в землю зарыли искусственные норы. Гнезда особые, ящики. А песец недоверчив. Он идет в обветренные, потерявшие запах постройки. Посмотрим, что выйдет.
Девочки Соловьева возились и вскрикивали. Покровский все время ощущал их мелькающее присутствие. Они наполняли всю комнату свежестью. Белые голые ручки, сияние маленьких лиц.
— Тише! — сказал Соловьев. — Ишь, бегают в летних платьях. Они у меня, как в Ленинграде на даче.
…Да, конечно. Улучшить породу песцов. Отборные голубые сорта различных расцветок. Помесь белых и голубых. Помет рождается мешанный. Часть детенышей голубая, часть белая. Но белый песец с примесью голубой крови, смешиваясь с голубым, дает чистое голубое потомство. Повышение качества материала. Чтобы нежная, тонкая шерсть. В тридцать четвертом — тридцать пятом году — 6.728 самцов, 5.711 самок. Выбраковка 979 штук. Часть на племя и около 6.000 излишек. Это значит, к концу пятилетки один только Кильдин владеет количеством, которое сейчас имеется на мировом рынке. Соловьев бросает цифры горстями.
С 31—32 года производить подсадку песцов в леса. Обмен экземпляров с Америкой. Цена 100-170 долларов штука. И совсем недавнее дело. Запрещение охоты на острове с 25 года. С осени 28-го остров арендован Госторгом.
Вот он, договор:
Февраль 1929 года. Госторг РСФСР и Мурманский Окрисполком. ОКРЗУ предоставляет Госторгу в арендное пользование территорию острова («заметьте, заметьте»,— говорит Соловьев) со всеми находящимися зверями для развития и организации... по методам и приемам современной техники... пушного звероводства и зверопромышленного хозяйства ... Сроком на 12 лет, считая от 1928 года. Предоставляемое Госторгу право на эксплоатацию территории острова является исключительным.
...— Как в Ленинграде на даче. Эта, вот, родилась на Новой земле. Я ее и назвал Поляриной. Дружат дочки с песцами. Бывало, зимой ползают по снегу перед домом, а песец сторожит. Они на него снег сыпят лопаточками. Песец отряхнется и ляжет подальше. Девчонки опять на него со снегом. Так и играют.
Родиться на Новой земле. Тогда остров Кильдин становится Югом. Особые ветры пестуют тело. Глаз развивают особой прохладности, нежности краски. Как суровы и туги зазубрины скалы! Север — верность и строгость. Север — мужество.
— Я сама не бывала южнее Архангельска, — говорит жена Соловьева. — Что такое Москва?
-
Что такое Москва? — вспоминает Покровский. Как приблизить Москву к этой комнате, бухте, песцам? На острове нет соответствий Москве. Ни малейших подобий.
-
Ты в Москве пропадешь и соскучишься. — Соловьев знает Москву. Оп притянут к ней перепиской. Москва — Пушной синдикат и фасады зданий правительства. И друзья по гражданской войне. По борьбе с Махно и Деникиным.
-
Нет работников. Малограмотность губит. Например, у меня сторожа на кормушках-ловушках рассказывают все устно. А за две недели дежурства всего не упомнить. Важно записывать, сколько песцов приходило к кормушке, как относятся к человеку, как ладят друг с другом. Я и сам малограмотный. Тут бы поставить научную станцию. Изучить песца, воспитать. Звероводство — новое дело. Вот раскинем вальеры, устроим питомник, наладим песцовую амбулаторию.
-
А я все же поеду в Москву. Пусть только вырастут дети. Соберусь и поеду, — отозвалась тихо жена.
6
Песец выкрал овчину у Людвига и трепал ее за крыльцом. Людвиг стоит над песцом и внушает ему по-норвежски:
— Зачем ты стащил овчину? Овчина — нужная вещь. Если б ты рыбу украл, ничего. Это дело другое. Взял бы рыбу, это я понимаю. Совсем испортил овчину. Ну, да коли испортил, и мне она не годится. Бери овчину себе. Людвиг — чудак.
Покровский пишет письмо:
«... На фотографии женщина в скромном платочке. Немолодая. Остренькое лицо улыбается. Белые, мелкие зубы блестят, как зубы песца.
Как схожи наши обиды. Виды человеческих несчастий можно классифицировать. Определять их породы, как породы животных. Можно составить каталоги переживаний. Тут область литературы. Ей следовало бы этим заняться.
Я живу у норвежца, который разошелся с женой. Ее фотография темнеет на стенке. Он няньчит чужого ребенка. Жена издевалась над ним. — Разве мог от тебя быть красивый ребенок? Ребенок не похож на тебя. Ты здесь непричем. — Когда к жене заявлялся матрос, норвежец выходил в соседнюю комнату. Он сидел, курил трубку и ждал. Что это? Ленивая тупость, скудость сердца, медленность крови?
Как-то в Москве я вернулся поздно домой. Двор был превращен уже в ночь. Фонари не горели. Наши окна стояли в стене двумя световыми провалами. Я различал снизу перекладины рам, слой белого занавеса. Я представил себе высоту потолка, трещины в нем, черный гвоздь, вбитый в карниз. Память одарила меня всем без задержек. Я понял непроизвольно, может, по беззастенчивой яркости стекол, что ты сейчас не одна. Мое возвращение было бы лишним. Окна не принимали меня. И они были правы. Я не в силах их опровергнуть. Они знали больше, чем я.
Я стоял и раздумывал. Словно мне следовало представить весь потолок целиком, а я забыл, как укрепляется люстра. Наконец удалось отвернуться и я снова вышел на улицу. То-есть, ты понимаешь, Елена, все произошло как по-писанному. В этот момент я представил себе подъем по темной развернутой лестнице. Беззвучный нажим французского ключа — и дверь плавно открылась.
Я разрезаю комнату шагами на две половины, как разрезают мякоть плода. Я в спелой ее сердцевине, в центре под люстрой. И ударяю наотмашь его по лицу, твоего собеседника, косточками кулака по губам.
И тогда-то на улице мне стало противно. Я будто объелся
какого-то горклого сала. Внутренности мои выворачивались. Я почувствовал отравление. Я унизил свое воображение, представляя подобную сцену. Я не смел этого делать, даже ради тебя. Вряд ли это понятно тебе. Но норвежец, пожалуй, поймет, хотя мы не обменялись ни словом.
Я вернулся домой часа через два. Ты спала. Комната зябко светала. Люстра дремала висячей, стеклянною тенью. Я разобрал, наконец, каким способом она надета на крюк.
Конечно, мне следовало превратить в слова эту ночь. И вернуть ее тебе постепенно, фраза за фразой. Но ты опасалась слов. Они скатывались с тебя, будто капли по вощеной бумаге. И я потерялся, я отступил. Но теперь я пишу ясно и прямо. Может, это от воздуха, от того, что здесь нет темноты. Даже ночью все очевидно...»
7
Утром Соловьев зашел за Покровским. Оба шествовали по закраине берега. Надо было добраться до кормушки-ловушки. Море шло рядом с ними. Прибой повторял форму берега. Мгновенно обводил его линию меловыми мазками пен. И снова стирал изогнутость мысов и впадин. И выдавливал заново их, и подкатывал берег к ногам.
Торфяная земля мягка, как перина. Прошлогодние сохлые дерны. Камни, пестро раскрашенные изумрудными мхами. Камни были вместо цветов. Из них можно складывать клумбы.
Однако, находились и группки настоящих цветов. Розовые низкорослые крапинки. Уменьшенные подобия лепестков. Словно забавное, трогательное воспоминание о южных цветах.
Они повернули, покорно следуя берегу. Океан поднялся до неба наклонной стеной. Выпуклый, точно темный складчатый парус. И белые паруса рыбаков наколоты на морщинистую синеву, как дрожащие бабочки. Соловьев говорил без умолку. В его мыслях бродили песцы.
— Кто их знает, откуда они появились на острове. Рассказывают, тут был монастырь и монахи их разводили. Эриксены утверждают, что они завезли песцов из Норвегии. Говорят, раньше пролив замерзал. Старики такие находятся, которые, якобы, помнят. Травили песца стрихнином. Почти всех и повывели. А теперь песцу что? Пускай размножается. Самка приносит штук восемнадцать. Правда, только раз в год. И всех не выкармливает.
— А как относятся жители?
— Было все ничего. Мы старались заинтересовать население. Кое кого привлекали на службу. Электричество провели. Только два становища на всем побережьи со светом. Пятьдесят рублей в месяц платим на содержание клуба. А потом пошла ерунда. Нападают песцы на овец. Рыбаки бунтуют, волнуются. Овец мы, правда, оплачиваем. Попробуем отгородить поселок и пастбища сеткой. Да снегом может свалить. Ветры сильные. Пожалуй, придется выселить жителей на материк.
-
Значит, остров только песцам?
-
Обязательно. Пусть никто не мешает. Я писателям говорил: напишите, чтоб никто не вторгался. А то путаются организации. В прошлом году хотели рвать сланец. Теперь водоросли собирают на иод. Подумайте, весь берег займут. А песцу нужно море. Он должен размножаться. Чтобы к концу пятилетки было четыре тысячи!
-
Как полезно на время уехать из города, — начал было Покровский.
Соловьев посмотрел с удивлением. Покровский понял, что сказал невпопад. Между тем его мысли вытекали из фраз Соловьева. Так же, как из грохочущей декламации моря. И рассказ о песцах удивительно важен Покровскому. Хотя соприкасается с ним иной стороною, чем мог бы представить себесобеседник.
Как разнородно строение жизни! Сколько слоев, образований, пород. Обилие человеческих интересов, сталкивающихся между собой, опирающихся друг на друга по законам социальной кристаллизации.
Остров остался б совсем неизвестным Покровскому. Но во-время приходит несчастье. Оно принесло своими руками ему эту землю со всем ее населением. Или так — Покровский уперся в стену. Но в стене оказалась дверь. Он прошел сквозь дверь и вот — гуляет по берегу. На берегу приподнялась кормушка-ловушка. Деревянный, крохотный домик, еще уменьшенный морем и горными скатами. Ее обступали столбами, арками, каменными ящиками слоистые здания скал. Выветренный городок из крохкого камня. Причудливые мавзолеи, надгробные памятники, словно спрессованные из окаменелых бумажных листов. Так явно отделялись на-глаз один от другого тончайшие сланцевые пласты.
— Сундуки, — сказал Соловьев о городе скал. — Мы их так называем.
Крохотный домик необитаем и замкнут. Два чердачка чернеют под крышкой. К сквозным чердачкам с двух противоположных концов приставлены лесенки — трапы. В эти уютные чердачки по узеньким лесенкам забегают песцы, на запах приманки. Там они кормятся. Когда нужно песца изловить, автоматически открывается люк. Песец проваливается внутрь избушки. Люк захлопывается и зверь заперт.
— Посмотрите наверх, — отозвался Покровский.
По слоистым черным отвесам летят водопады. Словно тонкие шарфы. Мельчайшая водяная пыль искрится на солнце. На тропе у вершины два проворных пятна.
— Белый и голубой. Ишь бегут! — Соловьев вытянул шею. — Лисица бежит ровно, стройно. А эти как медвежата. Только быстрые очень.
Два песца, едва отделяясь от скал, задержались на склоне. И залаяли вниз, издеваясь над путниками.
8
На обратном пути подошли к маяку. Белая башенка отперта. Людвиг с тряпкой возился в круглой внутренности помещения. Он вспомнил, взглянув на Покровского, что девочка выздоравливает. И улыбнулся деловой, спокойной улыбкой.
По красной лесенке вес трое поднялись вверх. Маленькая площадка окруженная сплошным просторным стеклом. Справа светился пролив. Впереди расступается море. Чувство — будто находишься в середине широкого глаза. В центре зрачка, глядящего одновременно в разные стороны. И еще вспоминалась лаборатория, ее сосредоточенная чистота. Это впечатление, возникавшее от белой масляной краски на всех деревянных частях, подкреплялось фонарем, господствовавшим на подставке. Его массивное стекло, выпуклое посередине, ребристое сверху и снизу, вделано в желтую медь. Медь напоминала натертый блеск микроскопов. Из зеленоватой толщи стекла, вытянутые и опрокинутые, всплывали наверх отражения. Было тихо. Ветер стлался по стеклам, не вторгаясь в спокойствие башенки.
Соловьев, переговариваясь с Людвигом, давал объяснения.
Керосиновую лампу вносят в фонарь. Стекла вбирают ее неяркое свечение и сообщают лучам густоту, золотистость, насыщенность. Фонарь оживает. Он рождает свет из себя. Он висит, как стеклянное ясное сердце. Теплый воздух стремится вверх по стеклу. Его протяжный напор вращает легкую шестеренку. К шестеренке подвешен каркасик из проволоки. В каркасик на определенном расстоянии друг от друга вставляются жестяные заслонки. Заслонки вращаются вместе с каркасиком вокруг фонаря. Они покрывают лучи, создают темные промежутки. Фонарь мигает по азбуке Морзе. Чередование миганий маяк бросает окрест, как свое световое имя. В международных судовых книгах хранится знак маяка. Любой капитан, увидев неповторимое сочетание вспышек и погасаний, определит местонахождение маяка и правильность своего направления.
— С первого мая по первое августа маяк не работает.
Людвиг подтверждает слова Соловьева.
Это важно в кромешную зимнюю ночь. Маяки здесь видят друг друга. Они передают пароход из рук в руки, кивают ему с возвышенностей. Искусственные звезды, благожелательно восходящие по своим мореходным законам.
Людвиг вслушивался, будто понимая, в речь Соловьева. Когда тот останавливался, он напоминал что-то еще. Он был рад ввести Покровского в суть своего ремесла.
Голос его звучал веско и связно. Людвиг чувствовал себя включенным в мирную армию, в братство маячников, связанное пониманием международных сигналов.
— Иногда, — перевел Соловьев дополнения Людвига, — в окна башенки вкладываются цветные стекла. Цвета тоже определенные и тоже помечены в книгах. Один цвет обозначает пролив, другой — открытое море. Есть маяки одаренные голосом. Когда свету не сладить с туманом, они посылают раскаты колоколов и бой трехдюймовок. И звоном и выстрелами управляет азбука Морзе. По пятилетнему плану Кильдинский маяк получит свой колокол.
Экскурсанты исчертили бока башенки вязью фамилий, адресов и профессий. Людвиг указывает на отверстие в толстом стекле. От него звездой расходятся трещины. Это пьяный пройдоха пальнул из револьвера.
9
«Теперь я могу представить отчетливей. Матрос оставался с женой. Людвиг смотрел на часы. Было время подлить керосин. Он одевался с застывшим лицом и грузно шел к маяку. Ночь висела вокруг, как черный пузырь. Жестяная пурга расстилалась и складывалась. Невидное море рычало повсюду. Словно оно ворвалось внутрь острова и готово пробить его оболочку. Людвиг шел, будто видел насквозь в темноте. Нет, он обходился без помощи зрения. Он знал остров во всех мельчайших подробностях. Лучше чем лицо жены. Остров был ему родиной. Жена отыскалась позже. Вдавливая в снег шаг за шагом, Людвиг что-то обдумывал важное. Мысли ворочались, как жернова.
Ну, конечно, в сущности он мог бы убить моряка. Мальчишка бы рухнул от первых толчков. Мускулы Людвига наливались злобой. Кровь становилась тяжелой, свинцовой. Он отмыкал дверь маяка и просовывал голову внутрь. Он просовывал голову внутрь, как бы спасаясь от невнятных картин, догонявших его. Картины слишком мрачны. Людвиг не хотел их разглядывать. Он стоял внутри башенки, часто дыша.
И тогда сверху доносилось металлическое жужжание. Людвиг подымал голову и различал его ясно. Да, правильное бормотание, подрагивающее повествование жести и проволок. Поскрипывало и кружилось, порхало, как голубь. Теперь определялись тона. Неумолкаемое перебирание одной и той же струны. Это вращается шестеренка. Теплый воздух тянет ее, играет на ней, дует в нее сквозь горло лампового стекла. Людвиг слушает, подняв широкое лицо. Мысли его расступаются и он восходит по лесенке.
И когда он, в обитом стеклами шаре, ему кажется, что его место — лучшее в мире.
На фонарь трудно смотреть. Он тепел и ярок, как солнце. Тени от заслонок пролетают вокруг, разрубая башенку на неравные доли света и тьмы. Луч возникал рядом с Людвигом и уносился, рассеиваясь. Узкий световой коридор, пробуравленный в сумраке. И Людвигу представлялось, что это он сам, его угрюмая жизнь, преображенная в блеск и полет, разбрасывается в ночи. Его жизнь отыскивают пароходы, капитаны правят по ней. Люди, ничего не зная о Людвиге, все же нуждаются в нем. Он оправдает доверие. И ему становилось спокойно. Елена...»
10
Отъезд наступил неожиданно. Рейсы совершались случайно, и прохожий бот брал Покровского на борт. Опасаясь бессрочно застрять, Покровский решил отправляться.
Он прощался с Людвигом. Соловьев стоял на мостках. Туман волочился вдоль острова, убирая из глаз склон за склоном. Мутное небо спустилось в пролив. Люди готовы расстаться. Их мысли соприкасались в тумане более различные, чем их внешние облики. Если б пересадить одну только мысль любого из них в череп другого, он не знал бы, как с ней обращаться. Может, он просто не перенес бы этой мысли в себе и ощутил бы себя сумасшедшим.
И, однако, Покровский нес в своем существе и Соловьева с песцами, и судьбу норвежца-маячника. Он погрузил их в себя столь глубоко, что они вытеснили ого собственные огорчения. Да и есть ли такие отдельные боли? Покровскому представлялось, что Людвиг, изживая свои неурядицы, прожил их и за него, за Покровского. Так что на долю Покровского остались сущие пустяки.
И вот — Соловьев — воспитатель песцов, обогатитель природы, добытчик пушного золота.
У каждого свой маяк. Главное, что б отдельные жизни, как маяки, перебрасывали друг другу свои световые названия.
— Ну, товарищ, - сказал Покровский. Соловьев протянул ему руку. Людвиг медленно поднял фуражку.
...Рассказ кончился, а молчание продолжалось. Продолжалось минут пять, после чего писатель в очках сказал:
-
Если и дальше так будешь, придется нам бросать перо.
-
Вот это, я вам скажу, — да-а! — прибавил красивый.
В домик вошел председатель сельсовета.
-
Вы хотели попасть, товарищи, на собрание. Так милости прошу сегодня к шести часам вечера. Заседание сельсовета вместе с активом... Самое важное за эту весну.
СЕЛЬСОВЕТ В СЕВЕРНОМ ЛЕДОВИТОМ
— Объявляю расширенное заседание сельсовета открытым, — сказал председатель.
Все стены избы-читальни покрыты плакатами о борьбе
с жуками — вредителями посевов, о преимуществах минерального удобрения, о том, что покупая заем, крестьянин помогает государству строить сеялки и молотилки. Эти весьма мудрые и справедливые плакаты имеют, однако, некоторые недостатки: во-первых, на острове Кильдине нет ни жуков-вредителей, ни посевов; во-вторых, кильдинские поля так щедро удобрены минералами, что на них не растет ни былинки; и в-третьих, сеялки и молотилки нисколько непригодны для ловли и сушки трески. Здесь, в Ледовитом океане, среди июньских снегов, эти изображения тучных нив и пышных снопов, глядящие со стен, кажутся издевательством над природой. Плакаты присылают из центра. Интересно знать, куда работники центра направляют свои плакаты о рыболовном промысле? Может быть в Центральную Черноземную Область?
За длинным столом на скамейках сидят рыбаки. У них вьющиеся широкие светлые бороды. Есть несколько бритых, но это не коренные кильдинцы: директор пушного
заповедника, представитель рыбаксоюза, заведующий йодными разработками, ученик мурманской совпартшколы, приехавший на практику. Есть один небритый, но пока безбородый — секретарь сельсовета, комсомолец лет девятнадцати. Коричневые лица рыбаков, как будто вырезанные из дерева, торжественны и непроницаемы, как всегда. В их спокойных глазах никто не прочтет, что они напряженно ждут боя, который, возможно, будет решающим и положит конец войне, вот уже больше года волнующей остров.
Войну эту ведут между собой йод и Песцы.
И все глаза с притворным равнодушием поглядывают тайком на двух главных бойцов — Степана Захаровича, заведующего йодными разработками, и Соловьева, директора песцового заповедника. Впрочем, бойцы холодны и спокойны на вид.
Председатель читает повестку дня. Все слушают, нет ли там чего-нибудь о песцах и иоде.
Повестка дня:
- О расширении заготовления торфа на острове.
- О работе добровольных обществ.
- О снабжении рабочих.
- Текущие дела.
Как будто о песцах и о иоде ни слова. Но так кажется только нам, непосвященным. Вся эта повестка, кроме пункта второго, о песцах и о иоде.
- Что у нас сегодня в текущих делах? — спросил Юрьев, бедняк, человек уже пожилой, но самый пылкий среди всех этих бесстрастных северян, никак не выражающих свои чувства.
-
- Доклад йодного хозяйства о плане предстоящих работ.
-
Ага! — многозначительно сказал Юрьев и умолк.
Итак, первый пункт: о торфяных разработках.
Председатель: В сельсовет поступило предложение, чтобы мы не только сами жгли наш торф, но чтобы мы снабжали им государственные организации, работающие на острове.
Степан Захарович кивнул головой.
— От кого поступило? — спросил песцовый директор.
Председатель: От йодного хозяйства. Им нужно топливо для их рабочих. До сих пор торфом пользовались только мы, рыбаки. Теперь рабочие тоже хотят торфу — нужно ж им топить чем-нибудь.
Рабочие — шестнадцать человек — привезены на остров Кильдин только неделю назад, — для собирания йодных водорослей. Это — первые пролетарии на острове за всю его историю. Скоро их будет еще больше.
- Нам самим торфу не хватает, — заговорили с разных сторон. — Каждую весну мерзнем.
Председатель: Подождите, я объясняю...
-
Нам за лето и для себя не напасти торфу на всю зиму, — перебивают его.
-
Тише, — говорит Юрьев сурово. И обращаясь к председателю:
-
Ну-ка, распой хорошенько, что они предлагают, а то неясно.
Председатель: Это верно, что торфу нам не хватает. А почему не хватает? В болоте его сколько угодно, запас хоть на триста лет. Но копаем мы его лопатами, времени летом мало, тащить до становища далеко, вот и не хватает. Йодное хозяйство хочет привезти сюда машину для добывания торфа. Эта машина накопает за два дня столько, сколько мы лопатами за все лето. И нам хватит, и рабочим, и еще сушилку для водорослей на этом торфе впоследствии пустить можно будет. Ну как, согласны?
Кто-то крикнул: «Что за машина? Мы этой машины не знаем», но сразу умолк. Предложение принято.
Резолюция: Если йодное хозяйство привезет торфодобывающую машину, население обязуется поставлять йодному хозяйству торф.
Юрьев(обращаясь к песцовому директору): Что ж ты молчишь? Как твой Пушторг смотрит на это дело? Глаза его, полные ехидства, смеются. Они лишились последних следов северной непроницаемости. Лицо оживлено.
Песцовый директор: Погоди, узнаешь. Я еще поговорить успею.
Из окна я вижу волны и горные скалы. На ум мне пришла Эллада, каменистые острова Эгейского моря. Я всегда представлял их почти такими. И граждане их так же собирались сообща для решения дел своих крохотных республик. Впрочем, вряд ли на эллинах были сапоги выше колен и желтые тулупы...
Председатель:Теперь доклад о работе добровольных обществ. Ну, Вася, ты — Мопр, докладывай. Вася — секретарь сельсовета, комсомолец с круглым детским лицом. Он на общественной работе недавно и робеет перед этими мужиками, вдвое и втрое старше его. Он застенчиво подымается с бумажонкой в руках.
Вася: Сначала о вовлечении в члены... вовлекли в члены Мопра пятьдесят процентов жителей становища... О работе... работы пока не производили никакой...
Вася угрюмо умолк, убитый тем, что доклад вышел так краток. Он, казалось, сам этого не ожидал.
— Сколько вовлечено? — кричал Юрьев. — Пятьдесят процентов?
Вася: Это неточная цифра... По одним спискам пятьдесят процентов, по другим меньше. Про некоторых никак не узнаешь, член он Мопра или нет... Членских взносов собрать почти не успели...
Юрьев: А ты сам — член Мопра? Или тоже не знаешь?
Смеется Степан Захарович, смеется песцовый директор, вся изба-читальня смеется. Вася садится, потом вскакивает, потом снова садится. Председатель звонит в колокольчик. Я приглядываюсь и вижу, что колокольчик — коровий.
Председатель: Я могу сказать, что Вася действительно перегружен работой...
Он чувствует, что Вася, сельсоветский секретарь, уронил своим докладом авторитет сельсовета. Но ему жаль Васю и он попытался замять дело.
— Халатность наша, а не перегружен, — сказал седой угрюмый рыбак, сидевший в самом углу, возле книжных полок.
Резолюция о работе Мопра:
«Признать работу Кильдинской ячейки Мопра неудовлетворительной...» (Седой рыбак: Скверной. Председатель: Неудовлетворительной. Юрьев: Не скверной и не неудовлетворительной, а просто никакой работы не было...) «Заново перерегистрировать всех членов, собрать все вступительные взносы полностью и заново начать всю работу».
Все примолкли, потому что чувствовали, что сейчас начнется самое главное — Иод и Песцы откроют военные действия.
И военные действия начались.
Председатель (Степану Захаровичу): Вы просили поставить на повестку пункт о снабжении йодных рабочих. Не понимаю, в чем тут дело. Ведь ваши рабочие получают все необходимое в нашем кооперативе.
Степан Захарович: Я боюсь, что кильдинская кооперация, если не примет заранее мер, не справится в дальнейшем со снабжением йодных рабочих.
Председатель: Почему? Ведь их всего шестнадцать человек.
Степан Захарович: Сейчас их шестнадцать, но скоро будет двести.
Песцовый директор (подскакивая): Сколько?
Степан Захарович (с ледяным спокойствием): Двести.
Юрьев: Вот и славно — двести человек. Хоть веселей немного станет. Человек не песец.
Юрьев яростный сторонник йода — песцы у него загрызли овцу.
Председатель (песцовому директору): Ты хочешь возразить? Говори.
Песцовый директор: Нет, я пока послушаю. Потом скажу все сразу. Продолжайте.
Председатель: Ладно, сельсовет берется переговорить с кооперацией о дополнительном завозе продуктов для снабжения двухсот человек. Возражений нет? Переходим к текущим делам. Ты хотел что-то сказать, Степан Захарович.
Степан Захарович: Я хочу вам прочитать решения СТО и Мурманского Окрисполкома о добывании йода на острове Кильдине.
Песцовый директор: В решения СТО ни слова нет о Кильдине. А с Окриеполкомом Пушторг еще поговорит.
Степан Захарович как будто и не слышал этого замечания. Спокойно и медленно раскрыл он свой портфель, вынул две бумаги с печатями, положил их на стол перед председателем и сказал ему:
— Прочти-ка вслух.
Председатель начал читать. Бумаги, очевидно, были отпечатаны во множестве экземпляров и на Кильдин попал самый последний тусклый экземпляр, на котором буквы пишущей машинки были почти неразличимы. Председатель читал медленно, напрягая зрение и едва различая слова. Попав на какое-нибудь особенно неразборчивое слово он вопросительно взглядывал на Степана Захаровича. Но Степан Захарович молчал безучастно, предоставляя ему выпутываться самому.
В постановлении СТО предлагалось организовать на берегах Ледовитого океана сбор водорослей для добывания йода. В постановлении Мурманского Окрисполкома самым богатым водорослями местом признавался остров Кильдин и предлагалось начать сбор именно с него.
Степан Захарович слушал бесстрастно и только раз, не удержавшись, торжествующе щелкнул языком. Кончив читать, председатель передал ему бумаги и сказал:
— Ну что ж, принимаем к сведению.
Степан Захарович (торжественно и даже грозно): Вы теперь видите, товарищи, что вопрос поставлен всерьез и прошу тормозов не делать!
Юрьев (круто поворачиваясь к песцовому директору): А как Пушторг смотрит?
Песцовый директор (Степану Захаровичу): Что вы собираетесь строить на Кильдине?
Степан Захарович: Навесы и печи для сушки водорослей и завод для добывания из сухих водорослей йода.
Песцовый директор: А в каких местах будут эти постройки?
Степан Захарович: Сбор водорослей будем производить по всей береговой линии, завод построим у Могильного озера, сушилки поставим в разных местах: одну здесь в становище, другую у Сундуков, третью у разбитого английского парохода, четвертую на западном конце острова.
Юрьев: Как раз там, где песцовые кормушки.
Песцовый директор (стараясь говорить спокойно): Разве нельзя сделать так — собирать водоросли здесь, а для сушки и переработки возить их на материк? Я хочу предложить йодному хозяйству построить завод и сушилки на материке, на другой стороне пролива.
Степан Захарович: Перевозка мокрых водорослей на материк — убыточна. Лишний накладной расход. Гораздо выгоднее вывозить отсюда уже готовый иод. Мы построим завод и сушилку здесь на острове и прошу мне тормозов не делать!
Песцовый директор (вскакивая): Нет, Пушторг это так оставить не может. Здесь будет двести человек. Они будут ходить по острову, пугать песцов, мешать их спариванию, размножению. По всей береговой полосе будут ходить люди и собирать водоросли. А песцы питаются как раз тем, что море выбрасывает им на берег. Им теперь к берегу будет не подойти и они вымрут от недоедания. А кто нам поручится, что на острове не начнется браконьерство, что песцов не станут бить исподтишка... Люди — опасные соседи для песцов.
Юрьев: Песцы — опасные для людей соседи, а не люди для песцов. Одиннадцать овец твои песцы за весну зарезали. Как волки. Вчера теленку прокусили нос. Скоро детей жрать будут.
Песцовый директор (оборачиваясь к Юрьеву): Во-первых, Юрьев, мы тебе за твою овцу пятьдесят рублей заплатим. А во-вторых, совестно тебе на все смотреть со своей колокольни. Ты человек передовой. Ты не с своей точки посмотри, а с государственной, общей. Что полезней нашему Союзу — чтоб тут шлялось два десятка овец или чтоб тут жили тысячи песцов, за которых заплатят валютой?
Юрьев смутился. Ему совестно стало, что он смотрит со своей точки, а не с общей.
— Я тоже с общей точки смотрю, — попытался возразить он. — От йода польза есть, а песцы — одно украшение. Иод лекарство, им раны заливают. Из нашей трески тоже полезное лекарство делают — рыбий жир. Вот и был бы наш остров лекарственный, для людей полезный... А за иод, думаешь, валютой не заплатят?
Песцовый директор (не слушая Юрьева): Песцов можно разводить только на Кильдине, а иод добывать — где угодно.
Степан Захарович: Нет, не где угодно...
Песцовый директор: Я этого так не оставлю. Я с первым же ботом поеду в Мурманск. Я заявлю протест. Вы срываете нам пятилетку.
Степан Захарович: А у нас пятилетки что ли нету? Оглушительно дребезжит коровий колокольчик, заглушает слова. Председатель грозно смотрит на спорящих. Когда, наконец, все умолкают, он говорит:
— Вам надо согласоваться, товарищи. Договоритесь между собой и пусть договорится ваше начальство. Можно согласоваться, не спорьте. Это не разные дела.
Все мы делаем общее дело, товарищи...
Заседание кончилось в полночь. Огромное желтое солнце висело над горными скалами. Восемьдесят три крохотных домика толпились у самой воды. Здесь край света.
Но и тут, на краю света, в этой полярной глуши, в этой холодной пустыне, люди живут тем же, чем живет вся страна, дышат с ней одним дыханием, делают общее дело.
К СТРАНИЦЕ "КНИГИ И РАССКАЗЫ"
НА ГЛАВНУЮ |